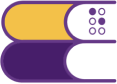Э. Пашнев. Солнце — его поводырь
12 сентября 2022
Статьи о В.Я. Ерошенко
В Белгороде проходила неделя поэзии. Наша бригада должна была побывать в дальнем районе. Мы сидели в холле гостиницы и ждали машину. Сопровождал нас уныло-суетливый человек в помятой капроновой шляпе. Он все утро кому-то звонил, куда-то убегал, а когда его транспортные хлопоты увенчались успехом, совсем поскучнел, подошел к нам и без всякого предисловия сказал:
- На
обратном пути можем заехать на могилу Ерошенко.
- А кто это? - осторожно поинтересовался я.
- Писатель, - ответил он, - русский. - И, помолчав еще немного, добавил: -
Слепой.
- А-а-а.
Наш гид вполне разделял это равнодушное "а-а-а". Он снял капроновую
шляпу, помахал ею перед своим лицом и, не стараясь ошеломить, просто
констатируя факт, буднично и деловито продолжил:
- Классик японской литературы.
- ?!
Обнаружив, что его слова произвели сильное впечатление, и почувствовав себя в центре внимания, он бережно расправил поля шляпы, надел ее, прихлопнул ладонью на макушке и, гордо приосанившись, словно сам и был этим классиком японской литературы, сказал:
- Да, в
самом деле.
Так я впервые узнал о существовании на свете русского слепого писателя из-под
Курска. Это было в 1964 году. К тому времени подобное изумление испытали всего
несколько человек: журналист и переводчик Лу Синя В. Рогов и составитель первой
и пока единственной книжки Ерошенко на русском языке Р. Белоусов. Читая
дневники Лу Синя, они почти одновременно натолкнулись на русскую фамилию,
которая в китайской транскрипции звучала как "Айлосянькэ".
Осенью 1923 года Лу Синь записывает в дневнике, что "Айлосянькэ уехал на родину". Отсюда и начинаются поиски, которые долгие годы остаются безрезультатными, потому что не так-то просто было Айлосянькэ превратиться в Ерошенко. Не было известно даже имя писателя, люди, с которыми В. Рогов разговаривал в Японии и Китае, называли его то Владимиром, то Василием. Только в 1958 году журнал "Знамя" впервые публикует подлинные имя, отчество и фамилию Ерошенко. Только после этого появляются цветы на его могиле, только после этого имя замечательного писателя и человека становится известным и нашему гиду.
Мы не стали откладывать посещение Обуховки на потом, мы упросили повезти нас туда немедленно. Путешествие из Белгорода до старой русской деревни заняло несколько часов, но для меня оно длится до сих пор. В большом автобусе ехало шесть человек вместе с шофером. Пустующие сиденья громыхали, и невольно думалось об отсутствии на них заинтересованных пассажиров. И сейчас, когда я пишу об этом и придаю тому рейсу символический смысл, мне хочется, чтобы двери автобуса распахнулись пошире: заходите, рассаживайтесь, занимайте пустующие сиденья. Мы совершим с вами путешествие в жизнь, похожую на легенду.
Россия, Обуховка, 1889 год
С одной стороны, вдалеке, за тремя десятками крестов деревенского кладбища, синий лес, с другой стороны тоже лес, но близкий, подступающий к самым домам. И с третьей стороны - лес и множество больших и малых, коротких и длинных дорог. Между всеми этими лесными угодьями и дорогами раскинулась своими домишками деревня Обуховка. Издавна приходили сюда селиться мужики с двух сторон. Одни из них рубили хаты, другие ставили избы, у одних окна смотрели на Украину, у других - в Россию. А изба крепкого мужика Якова Ерошенко смотрела окнами и в Россию, и на Украину, потому что сам он пришел с Украины, а жену привел в дом из-под Городищ, курскую.
Нa отшибе поставил свой дом Яков. А со временем поднатужился и пристроил к нему лавку для торговли всякой полезной мелочью. Не сразу появились у него близкие соседи, и долгое время между его избой со всеми пристройками и деревней было пустое место, и издалека казалось, что оторвался дом от всех домов, взбежал, на пригорок и замер, выбирая, в какую сторону ему зашагать.
Немногие в Обуховке отважились строиться так близко к дороге, все старались приладиться поближе друг к другу. Только одну церковь на этой пустой площади и срубили сообща, чтобы загородиться от большой дороги крестом божьим, колокольным звоном. Так и встречали всех проезжающих по большой дороге лихих и добрых людей дом Якова да рубленая деревянная церковь-крепость.
Здесь, на околице, в крайнем доме, к зиме 1889 года и созрела задуманная по весне жизнь. Наследника хотел Яков, мальчика, помощника в своих делах. И жена его, кроткая женщина, обнадеживала, говорила, что так и будет.
31 декабря во время разыгравшейся метели в плач ветра за окном вплелся тоненький голосок младенца, мальчика, и на земле стало одним соискателем на звание человека больше. Родители назвали его Василием, что означало "царственный".
Четыре года длилось счастливое царствование маленького Васи. Его владения были невелики, потому что троном ему служила люлька. Он мог повелевать только теми, кто дал ему царственное имя. Стоило ему приказать - и над ним склонялось лицо матери. Она брала его на руки и выходила за ворота на площадь перед церковью, на простор, и когда отклоняла лицо, чтобы поправить свои волосы, он видел небо, колокольню и голубей и потом снова лицо матери.
Только это и успел он увидеть и запомнить. Болезнь нагрянула неожиданно. В то время многие недуги лечили святой водой, в том числе и корь, которая своим обжигающим дыханием опалила мальчика. Женщина, чье лицо было так дорого Васе, просила повременить, боялась, что сын простудится, но святых теток не остановил лютый холод. Они схватили мальчика и, опрокинув навзничь, глазами в небо, бегом потащили через площадь.
Под ногами у них скрипел снег, а колокольня так быстро надвигалась, что Васе казалось, будто она валится на него вместе с небом. Поп, чтобы скорее избавиться от плачущего младенца, торопливо брызнул "святой водой" в широко открытые в ужасе глаза мальчика. И словно бы кислотой обернулись капли "святой" воды и выжгли их до самого дна. Началось осложнение, и Вася навсегда ослеп, веки его глаз сомкнулись, будто срослись.
Наступила темнота, но мальчик этого не понимал, и ему еще очень долго казалось, что он видит лицо матери, колокольню, небо и голубей. Но это уже было только воспоминание об увиденном.
Москва, дом Попова
В 1898 году, когда Васе исполнилось 9 лет, Яков Ерошенко, огорченный тем, что вместо помощника приобрел обузу, отвез сына в Москву в приют для слепых. Создан приют был на пожертвования купцов, и в годовом отчете отмечалось прежде всего, кто из них сколько пожертвовал. Руководил школой офицер царской армии, отставной кавалерийский полковник А. Витте, который ходил всегда с хлыстом и щелкал им себя по голенищу, а иногда ожигал и спины нерадивых учеников. Этот хлыст зрячего человека был вездесущ, как бог, он все видел и всюду доставал.
Порядки в школе несмотря на то, что там учились и девочки, были армейские, суровые. Это было странное учебное заведение, отрезанное от всего остального мира. Ученикам не разрешалось ни выходить из школы после занятий, ни возвращаться в родительский дом на каникулы. Многие родители отдавали сюда своих детей, чтобы на долгие годы избавиться от них.
Мальчишки и девчонки, попадая в это учебное заведение закрытого типа, переставали существовать не только для своих близких, но и для всех людей на земле. Их старались сознательно изолировать от зрячего мира, пока они не станут взрослыми и не очерствеют. Но незрячие ученики не хотели мириться со своей участью, их волновали те же вопросы, что и всех. И самый отчаянный из них и насмешливый - Лапин, к которому навсегда Василий Ерошенко сохранил дружеское чувство, - вставал из-за парты и задавал вопрос:
- Господин
учитель, если земля такая большая, отчего же мой отец никак не может приобрести
даже ее кусок, а вынужден арендовать землю у графа Орлова?
- Ты задал глупый вопрос, - ровным голосом отвечал учитель,- будешь стоять,
пока не поймешь это.
Верховные жрецы школы слепых никогда не повышали голоса, они были великодушны и мудры, и единственной мерой, которой определяли поведение учеников, был умный или глупый вопрос. Они добросовестно пытались приучить их к существующему на земле неравенству. "Есть белые и черные люди, - вещали они. - Наиболее цивилизованная и прогрессивная - белая раса, наименее цивилизованные - черная и красная".
Но
поднимался все тот же Лапин и спрашивал:
- Господин учитель, мы наиболее цивилизованные и наиболее прогрессивные из-за
того, что цвет кожи у нас белый?
Не успевал господин учитель "ответить, как поднимался другой мальчик, очень часто это был Вася Ерошенко, и звучал еще более наивный вопрос:
- А когда
летом люди чернеют от солнца, они от этого становятся менее цивилизованными?
Вопросы признавались глупыми, и ученики должны были стоять за партой или в углу
до тех пор, пока не поумнеют. А если кто-нибудь задавал особенно глупый вопрос,
его ставили на колени. Порой на коленях оказывались и Лапин и Вася Ерошенко. Их
ставили, чтобы некому было задавать глупые вопросы. И позднее Василий Ерошенко
скажет, что они стояли на коленях перед истиной, которая открывалась им во
время этих вопросов совсем не такой, какой хотели ее представить верховные
жрецы школы слепых.
Десять лет провел будущий писатель в доме Попова. Он научился плести корзины, клеить коробки, переплетать книги, но задавать "умные" вопросы так и не научился. Зато он научился читать пальцами, и с этого момента во всю ширину громадных рельефно-точечных книг открывается перед ним мир, сочиненный людьми, мир человеческой сказки. Чтение так захватывает его, что он не может читать один. Он собирает вокруг себя учеников из младших классов, и его тонкие музыкальные пальцы быстро скользят по строчкам.
Движение пальцев, осязание ими точек превращается в музыку его голоса, и он не пересказывает, а почти поет то, что узнают его руки из книг. Расстояние от пальцев до звучащего слова равно нескольким секундам, но и этого времени ему достаточно для того, чтобы, пока бежит слово по руке, добавить к нему еще одно из головы, от себя. И он добавляет, если восторг и вдохновение подсказывают ему, что сказка от этого становится лучше, красивее.
Малыши не подозревают, что слышат волшебные истории не совсем такими, какими они записаны в книге, и что перед ними сидит не простой чтец-декламатор, а будущий сказочник.
Василий Ерошенко без устали листает одну книгу за другой, и вот уже в библиотеке не находится ничего нового. А малыши привыкли, они собираются вокруг него и требуют новую сказку, и он не может им отказать. На колени ложится первая попавшаяся книга, и совершается еще большее чудо. Рука лежит неподвижно на выпуклой странице, пальцы машинально теребят всего одну букву, а голос звучит, а сказка рассказывается. Никто из его слушателей не мог видеть неподвижно лежащей руки, и поэтому никому даже в голову не пришло, что они присутствуют при рождении писателя.
А когда оставался один, Василий брал свою шестиструнную гитару и пел. Уже здесь, в школе, можно было заметить его удивительные способности к языкам и музыке. Мать у него была русская, отец украинец, и он одинаково хорошо говорил по-русски и по-украински, и пел с одинаковым удовольствием и русские песни и украинские.
Весной 1908 года Василий Ерошенко заканчивает школу. Из ворот дома Попова, где помещалось это строгое учебное заведение, он выходит на 2-ю Мещанскую улицу решительно, но за воротами мужество покидает его. Он поворачивается к дому, который столько лет ему был родным, и на лице его светится печальная благодарность. Именно светится, это одухотворенное сияние высокого лба потом будут отмечать все его знакомые во многих городах и странах. Он никогда ни у кого не будет вызывать жалости, он будет вызывать чувство удивления и святости благодаря своей непостижимой причастности к духовной жизни.
Но пока он только вступает в этот действительно огромный мир, пока он только учится ходить, учится различать в шуме московских улиц опасности, подстерегающие слепого человека. Эти первые самостоятельные шаги даются ему нелегко. Но он много ходит и вскоре привыкает сам, без посторонней помощи, узнавать дорогу. Но самого главного он еще не нашел - места в жизни, занятия для своих рук.
Его научили плести корзины, он может вернуться домой и зарабатывать свой хлеб этим ремеслом, но Ерошенко чувствует в себе силы для более осмысленной человеческой деятельности. Руками, которые умеют с такой страстью читать книги, управляет сердце, и он ищет работу, которая заняла бы не только его пальцы, но и душу. Наслаждение, испытанное во время импровизаций, когда он рассказывал сказки, не забылось, и смутное понимание своей артистической натуры мешает ему поступить в артель, где слепые клеят коробки и переплетают книги.
Московские прохожие часто в эти дни встречают высокого юношу, бредущего из улицы в улицу с низко опущенной головой. Он слеп, но удивительно красив. У него светлые, вьющиеся волосы, расчесанные на пробор, словно для того, чтобы не закрывали чистый н печальный лоб. Он одет в белую рубашку, подпоясанную широким поясом с такой огромной пряжкой, что она едва умещается в его ладонях, когда он ее поправляет. А за спиной все его имущество - шестиструнная гитара. Он несет ее на себе, и, когда его кто-нибудь нечаянно задевает в толпе прохожих, она отзывается всеми струнами глухо и тоскливо, и все оборачиваются на этот звук, и вокруг слепого образуется пустота, люди уступают ему дорогу, а он не знает, куда идти.
В конце концов гитара и выручила Василия Ерошенко. Он поступает в оркестр слепых и начинает выступать вместе со своими новыми друзьями в московском ресторане "Якорь".
В пьяный угар переломных лет, в шумное застолье тех, кому кажется, что 1905 год можно похоронить в сигарном дыму и утопить в шампанском, вдруг порой врывается украинская или русская песня, и в ресторане становится непривычно тихо. Ослепленная блеском и весельем публика не сразу понимает, почему она должна слушать песню о Степане Разине. Но потом ее захватывают звонкий и взволнованный голос слепого юноши и слова, звучащие не как в песне, а как в сказании. Василий Ерошенко поет, но им всем кажется, что он пророчествует.
Три года длился этот поединок с враждебно притихшим залом, с людьми за столиками, которые не хотели аплодировать слепому музыканту и певцу за его печальные пророческие песни. Они молчали после его выступления, и Василий Ерошенко понимал, что он стоит перед пустотой, и не кланялся этой пустоте, а уходил с поднятой головой на свое место в оркестре.
Он служил искусству как истинный артист, но его не понимали, потому что ресторан не место для искусства. Василий Ерошенко ищет выход. Он начинает откладывать деньги для своего первого заграничного путешествия.
Кавказское путешествие, о котором почти ничего неизвестно. За год до своего отъезда за границу будущий писатель и путешественник отправляется вместе с оркестром на Кавказ. Неизвестно, в каких местах он там побывал, кто слушал его печальные песни и проникновенную игру на гитаре, кто был рядом с ним. Может быть, со временем эти люди отзовутся, и мы узнаем недостающие подробности из жизни замечательного человека.
Но один факт, и немаловажный, из путешествия В. Ерошенко по Кавказу все-таки известен. Он взял с собой в поездку учебник эсперанто и не просто возил из города в город, а занимался каждую свободную минуту. В Москву он вернулся членом международного братства, основанного варшавским врачом Людвигом Замменгофом, изобретшим язык эсперанто.
Многие люди из разных стран полюбили этот выдуманный упрощенный язык, потому что он давал им возможность общаться друг с другом без переводчиков, помогать друг другу, собираться на одноязычные конгрессы. Впоследствии В. Ерошенко будет делегатом трех таких конгрессов, сам будет преподавать эсперанто в Пекинском университете и создаст на этом языке ряд замечательных произведений, которые до сих пор, к сожалению, не все еще разысканы...
Лондон
Сразу по возвращении с Кавказа Василий Ерошенко едет в Лондон. В Гамбург летит телеграмма. Немецких эсперантистов просят встретить слепого юношу и посадить в порту на английский пароход. Василий Ерошенко едет в Лондон учиться музыке. Он едет без провожатых и с волнением ступает на перрон Гамбургского вокзала. Одолевают сомнения: встретят ли?
В Варшаве так и не пришел к поезду человек с зеленой звездой на груди - символом братства. Как потом выяснилось, этот человек опоздал. А в Гамбурге цепочка братства действует безошибочно. Его встречают, ему показывают город, он слышит рядом взволнованные голоса, а главное, он все понимает, хотя и не говорит на немецком языке.
И вот он снова в пути и снова один. Из Гамбурга летит телеграмма в Лондон. Там его встретят уже английские эсперантисты.
Отныне слепота не мешает ему совершать путешествие. Вечный мрак можно преодолеть, когда рядом люди. И здесь, на пароходе, он особенно остро чувствует свое родство со всеми людьми на земле. Повернувшись лицом к Англии, он думает с благодарностью и об этой стране, хотя еще не был там. Он выбрал Англию, потому что эта страна казалась ему наиболее свободной и просвещенной. Ему хочется думать, что он едет той же дорогой, что и русские революционеры, которые были вынуждены эмигрировать из царской России.
Туманным утром он сходит на берег, и каждый удар рынды стоящих у стенки судов напоминает ему звон колокола. Эта музыка завораживает его, заставляет думать, и Ерошенко часто потом будет приходить в порт, чтобы послушать жизнь кораблей и тревожный шум моря. Он приехал сюда не только для того, чтобы научиться игре на скрипке. Нет, он до сих пор не получил ответы на "глупые вопросы", которые задавал вместе с Лапиным в московской школе для слепых. Он не хочет быть просто слепым музыкантом. Он не желает сидеть в своей темной скорлупе. Он ищет пути к свету, к солнцу, к своему личному участию в общественном совершенствовании мира.
Удивительна энергия этого молодого человека из России. Он поступает сразу в два высших учебных заведения - в Нормальный королевский колледж и Лондонскую академию музыки. Кроме того, он берет частные уроки английского языка. Но самое главное, он начинает брать уроки жизни у русских социалистов. Он нашел к ним дорогу, среди них у него с каждым днем становится все больше знакомых.
Записывается Василий Ерошенко и в публичную библиотеку. Абонемент его пестрит самыми разными названиями. За очень короткое время он становится всесторонне образованным человеком. В Лондоне он впервые пишет несколько своих сказочных аллегорий и даже публикует их. Но главное пока читать, и он читает, используя для этого каждую свободную минуту.
С этого момента он вообще не выпускает из рук книги, напечатанные точечно-рельефным шрифтом. Над Лондоном постоянно висят туманы, солнца не видно. В. Ерошенко с трудом находит дорогу среди кривых и запутанных лондонских линий. Слепой светловолосый юноша идет по улице, почти касаясь отсыревших стен домов. Одежда его становится сырой.
Она впитывает в себя холод старинных памятников и камней. А в библиотеке тепло. Ерошенко кажется, что это солнечное тепло источают книги, он греет о них руки и греется сам. Только упорным трудом, только силой своего духа, силой воображения можно преодолеть темноту, которая наступает, когда человек не видит даже протянутой к нему руки.
Легко быть в этом мире зрячим интеллигентом, можно лечь на диван и, спокойно скользя глазами по строчкам, прочитать "Чайльд-Гарольда", чеховскую "Степь" или "Каштанку". А он должен был читать Чехова пальцами, ощупывая каждую буковку. Я не удивился бы, если бы узнал, что у него на пальцах такие же мозоли, какие бывают у землекопов от лопаты. Для того чтобы узнать Чехова, Толстого, Пушкина на ощупь, он должен был трудиться, как землекоп.
В. Ерошенко торопится, спешит, словно предчувствует, что над его головой сгущаются тучь. Внезапно грянул гром - В. Ерошенко исключают из обоих высших учебных заведений. Свободная страна оказалась не такой уж свободной. Реакционные силы в королевском колледже и музыкальной академии потребовали исключения одного из своих многообещающих учеников. Они узнали, что В. Ерошенко встретился с князем П. Кропоткиным. Англия по традиции терпела в своей стране видного теоретика и деятеля анархизма, но только по традиции и не больше. К сожалению, князь П. Кропоткин не сделал в своем дневнике записи, и осталось неизвестным, о чем спрашивал его молодой музыкант и что отвечал ему вождь анархистов.
В судьбе Ерошенко эта встреча сыграла отрицательную роль. Мало того, что его исключили из двух высших учебных заведений, репутация анархиста потянулась за ним из Англии и в другие страны. К тому же в Японии ему довелось защищать известную журналистку Комитико Итика из Осаки.
В знак протеста против несправедливого осуждения японской анархистки, в то время, когда все японское общество отвернулось от нее, Ерошенко демонстративно ходил на свидания в тюрьму и носил передачи. Комнтико Итика впоследствии стала депутатом Верхней палаты от социалистической партии, а за Василием Ерошенко упрочилась слава анархиста. Некоторые люди в Японии и Китае, понаслышке знающие жизнь писателя, и после смерти называли его анархистом.
Это, как пишет журналист В. Рогов, долгое время мешало докопаться до подлинного облика В. Ерошенко, который всю жизнь занимался общественной деятельностью, но совсем не такой, какую ему приписывали.
Япония
Только пересаживаясь вместе с ним с корабля на корабль, с поезда на поезд, только следуя за ним из одной страны в другую, можно понять мятежную душу слепого писателя и путешественника.
В 1914 году он возвращается в Россию, а уже несколько месяцев спустя, в апреле, стоит на палубе корабля, раскачивающегося в Тихом океане. Он не по своей воле покинул туманный Альбион, ему жалко было расставаться с библиотекой и колледжами, но сейчас, когда пароход приближается к Японии, Ерошенко часами не уходит с палубы. Он испытывает сильное волнение. Утро только начинается, но он уже ловит лицом свет солнца, и для него это первое знакомство со страной, которую он не может видеть. Ему кажется, что с каждым всплеском волн за бортом солнце становится все ближе. Он плывет прямо в сторону солнца, туда, откуда оно восходит.
Ерошенко медленно сходит на берег. Он еще не ступил на землю, а кто-то уже берет его за локоть. Его встречают. Он слышит приветствие на никогда не существовавшем до Людвига Замменгофа наречии. Он радостно отвечает, и руки его новых знакомых ведут его в новую неизведанную жизнь. Он жадно смотрит их глазами на Токио.
Впоследствии Ерошенко скажет, что в своих путешествиях он никогда не чувствовал себя слепым, потому что многие люди в разных странах отдавали ему свои глаза для того, чтобы он мог увидеть облака и деревья, домики с раздвижными стенами и многоступенчатые крыши пагод. Мир, увиденный чужими глазами, причудливо преображался в воображении слепого юноши, и Токио казался ему еще более прекрасным, чем он был на самом деле.
Ерошенко сразу полюбил этот город, его ровные, прямые без тротуаров улицы, на которых легко было ориентироваться по яркому солнцу. Он отказывается от поводыря, он говорит, что поводырем ему служит солнце. В разное время суток оно впереди, сбоку или за спиной, но всегда рядом и всегда указывает правильную дорогу. В Англии это было невозможно и потому, что улицы не были так упорядочены, и потому, что на солнце нечего было рассчитывать.
В. Ерошенко всегда ходил по земле с высоко поднятой головой. Он словно бы сам для себя написал строки о том, что "не надо спускаться вниз и вниз не надо смотреть". И он никогда не смотрел вниз. Он потом и пьесу напишет, которая будет называться "Розовые облака", а в другом переводе - "Облако персикового цвета". Впрочем, пришел он в литературу с опущенной головой.
Темой для его первого рассказа послужили действительные события. Он приехал в Японию весной, когда цвели вишни. Солнце и весна, по его словам, влили в него новые силы и вселили новые надежды. Он поступает в токийскую школу для слепых, овладевает искусством массажа.
Этот древний метод лечения был привилегией японских слепых, но обаяние русского юноши настолько сильно действовало на окружающих, что ему были раскрыты все секреты. Его руки, умеющие извлекать звучащее слово из толстых точечно-рельефных книг, теперь прикасаются к живым людям и читают их болезни. Добрые пальцы скользят вдоль обнаженных плеч и спин. Они выстукивают, выслушивают, они причиняют целебную боль, и В. Ерошенко временами чувствует себя целебным скульптором.
Он формирует тела людей. Ему нравится искусство массажа, при помощи которого можно вылечить тело, но В. Ерошенко хочется большего. Он тянется к другому искусству, при помощи которого можно лечить и формировать души. Он уже преодолел много километров дороги, ведущей к самому себе. В его жизни уже было и бессознательное творчество, когда он улучшал во время чтения чужих книг то, что, по его мнению, было недостаточно хорошо написано, и первые опыты, отданные на суд английским читателям, которые не принесли ему большого удовлетворения.
Ему остается сделать только один шаг, чтобы стать тем, кем он будет потом всю жизнь. Ему нужен только повод, настроение, которое ему захочется поведать бумаге.
Утомленный длительными массажными процедурами, он выбирается из города, чтобы отдохнуть на озере. У него есть излюбленное место на платформе плавучего ресторана. Он садится в тень в дальний углу и заказывает, как всегда, нехитрую еду и чай. Платформа слегка покачивается, над головой потрескивает свеча в ярко раскрашенном фонарике, а где-то еще выше светит луна. Двадцатишестилетний юноша пьет чай и слушает музыку. Ему очень нравится древний японский шестиструнный инструмент - шамисэн, но еще больше нравится девушка, которая играет на шамисэне. Ерошенко давно ходит сюда из-за нее.
Он сидит, низко опустив голову, и не знает, что эта музыка вскоре переполнит его и заставит обратиться к звучащему печальному слову, заставит писать. И он так и шагнет в литературу из этого плавучего ресторанчика и даже не успеет поднять головы, потому что первый рассказ будет именно об этом: о луне, фонарике, гейше в шелестящем кимоно и низко опущенной голове слепого юноши.
В паузах между игрой на шаинсэне девушка спускается в зал. Ерошенко почти безошибочно догадывается, когда она смотрит в его сторону, и еще ниже склоняется к своей чашке чая. Между ним и гейшей устанавливается незримая связь. Василий стал замечать, что при его появлении шамисэн начинал звучать как-то иначе, взволнованнее и проникновеннее. Девушка при его появлении начинала играть для него. И он был за это ей благодарен и мог часами сидеть и слушать, не поднимая головы.
Однажды шамисэн вскрикнул, словно предвещая беду, и наступила томительная тишина. Василий Ерошенко услышал, что девушка, которую он полюбил всем сердцем и которая полюбила его, не стоит больше на своем возвышении. Шелковый шелест ее одежд надвинулся и замер. И она, подойдя к нему, спросила, почему он всегда сидит с опущенной головой. Ерошенко поднял голову, и гейша увидела, что он слепой. Он был очень красив, у него были светлые пышные волосы, взволнованное лицо, но вместо глаз - тесно слепленные веки.
Он мог с нею разговаривать, мог слушать ее, но он не мог увидеть, какая она красивая. Больше ее шамисэн не звучал для него, как раньше, и вскоре девушка перестала его замечать. Молодая и красивая гейша не понимала, что у него всего-навсего нет глаз, а видит и чувствует он лучше других. И если бы она позволила прикоснуться к своему лицу, он бы увидел ее руками и рассказал бы всему миру о ее неземной красоте.
Он бы сказал ей много редких слов, но она ушла, она теперь далеко, и Василий Ерошенко решил сказать эти слова всем людям. Прошло всего полтора года, как он живет в Японии, но именно на японском языке он пишет свой первый рассказ. В нем есть все: и человек с опущенной головой, и луна, и фонарик, и горький упрек гейше в том, что ее ослепил фонарик, а луну она не заметила.
Печально закончилась первая любовь двадцатишестилетнего юноши, радостно началось его творчество. Вслед за "Рассказом о фонарике" он пишет второй рассказ, "Дождь идет", и в 1916 году почти одновременно в двух журналах: "Кибо" и "Васэда Бунгаку" - появляются оба произведения молодого писателя. Его имя становится сразу известным. За рассказами появляется статья "Женские образы в современной русской литературе".
Не случайно он обращается именно к этой теме: через литературу, через анализ художественных произведении он хочет сам понять женщин. Незримо проходит сравнение между образами из русской литературы и образом девушки, которую он описал в своем рассказе.
Действительная жизнь и литература в этих первых опытах так тесно переплетаются, что невозможно отделить, где Ерошенко чисто по-человечески жалуется, что хорошая девушка отвергла любовь хорошего человека только потому, что он слепой, а где он уже выступает как художник, осмысливающий явление. Статья подводит итог его раздумьям и первым поискам самого себя. Василий Ерошенко больше не колеблется.
Он нашел свое призвание, его читают, от него ждут новых рассказов, журналы заказывают ему новые статьи о русской литературе. Его необыкновенно радуют эти заказы, потому что он получает возможность выступать в Японии от имени своей страны.
Интерес к Востоку и в дальнейшем никогда не заслонял для него Родину. И хотя большинство своих произведений он написал на японском языке, Ерошенко всегда помнил, откуда он родом. И всегда, где только можно, он говорил о русской литературе, пропагандировал ее в своих публичных выступлениях, объяснял в статьях, всячески способствовал тому интересу, который в это время пробуждался в Японии, Китае и других странах к культуре России, Василий Ерошенко никогда не был человеком без родины, хотя его судьба и сложилась таким образом, что он обрел свое общественное признание впервые на Востоке, и имя его попало в энциклопедию даже в Японии.
Отголоски событий в России доносились и сюда. И если это радовало друзей В. Ерошенко, то полиция начинала проявлять беспокойство. Солнце светило по-прежнему, но Ерошенко стал замечать, что даже в самую ясную погоду нет-нет, да и пересечет его дорогу какая-то суетливая тень. Обостренным чувством слепого он стал явственно ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. Желая избавиться от этого взгляда, Ерошенко начинает бесцельно кружить по токийским улицам, но тщетно. Чьи-то глаза прилипли к его затылку и с каждым шагом причиняют ему все большую боль.
Утомленный бесцельной ходьбой, Василий Ерошенко забрел в какой-то небольшой садик в центре города, сел на лавочку и прислонился спиной и затылком к дереву. Шершавая кора и толстый ствол на минутку загородили его от назойливого взгляда, и всю эту долгую минуту он отдыхал. Его запрокинутое лицо было жадно обращено к солнцу. Но тень, неотступно следовавшая по пятам, обошла лавочку и дерево и остановилась прямо перед слепым писателем.
Так в жизни
Василия Ерошенко появился человек, загородивший солнце, черный человек. Отныне
неуютно будет гусляру из-под Курска на улицах Токио и, может быть, этот
пристальный надзор японской полиции и ускорил его отъезда из страны, которую он
потом назовет своей второй родиной.
В начале июля 1916 года Ерошенко стоит на палубе парохода. Его путь лежит в
новые неведомые страны.
Сиам
Василий Ерошенко отправился в Сиам, чтобы организовать там школу для слепых. Вот и все, что известно об этом его, может быть, самом красочном путешествии. Эта отдаленная точка на земном шаре - самое подходящее место для какого-нибудь удивительного события, которого не было, но которое могло быть. Именно поэтому не в Пекине, не в Токио, не в Калькутте, Лондоне или Париже, а в Сиаме молва поставила памятник слепому русскому писателю. И уже появляются статьи, где о памятнике говорится, как о явлении достоверном. И когда читаешь об этом, невольно думаешь, что если люди сначала придумали легенду, а потом поверили в нее, то незачем ездить и проверять - стоит памятник Василию Ерошенко в Сиаме или нет.
И неважно, что у этого изваяния нет автора и нет самого изваяния, памятник все равно стоит, потому что этого хотят многие люди. И стоять этому памятнику теперь вечно, потому что легенда делается из более прочного материала, чем бронза, гранит или мрамор.
А может быть, и в самом деле какой-нибудь отчаянный скульптор на свой страх и риск из простого камня высек упрямо наклоненную голову философа и широкие плечи путешественника, и стоит сейчас Василий Ерошенко в тени какого-нибудь диковинного дерева на той далекой сиамской земле, и все, кто проходит мимо: школьники и почтальоны, учителя и крестьяне,- приносят к его ногам экзотические цветы своей родины. И мне тоже хочется выйти из автобуса, в котором мы с вами преодолели часть пути, свернуть в трубочку свою повесть и положить к подножию памятника, независимо от того, есть этот памятник на самом деле или только должен быть.
Бирма
В январе 1917 года Василий Ерошенко ступил на "Шуэбеджи" - золотую землю Бирмы.
Много лет назад, когда древние города Мандалай, Моулмейн, Аву, Пегу, Паган были свободны, вот так же в Страну Рубинов прибыли два англичанина. Их интересовали драгоценные камни. Бирманцы показали приезжим специалистам два рубина, и каждый был величиной с куриное яйцо. Они попросили англичан определить цену драгоценных камней. Но европейцы никогда не видели таких огромных рубинов.
Они не
смогли определить их стоимость ни в фунтах, ни в долларах. Они выглядели на
этом экзамене перед богатством "Шуэбеджи" не специалистами, а
дилетантами. Пришлось им убираться на свой остров ни с чем.
Василий Ерошенко приехал из более загадочной и далекой страны, из России. Он
был первым русским, посетившим Бирму, и его интересовали совсем другие
ценности. Не те, экспорт которых делал страну беднее, а те, вывоз которых за
границу делал богаче древний народ. В отличие от своих соплеменников по цвету
кожи, не сумевших назвать стоимость рубинов, он сразу определил настоящую цену
бирманским легендам и сказкам.
Василий Ерошенко переезжает из города в город и жадно слушает их, запоминает, записывает. Причудливость и красочность сиамского и бирманского фольклора обогащают его новыми образами и темами. На страницах японских журналов расскажет он позднее и про двух незадачливых англичан, и про девушку, живущую в тыкве, и про Нанграин - корову с золотыми рогами, и про индийского военачальника Баву, у которого ахиллесова пята была под мышкой.
В "Бирманской легенде" Василий Ерошенко отказывается от строгого сюжета и передает возникновение государства в виде своеобразной фантастической хроники. Одна волшебная династия сменяет другую, и хотя с того времени, как островок, на котором прежде не могли поместиться две птицы, превратился в прекрасное, сначала свободное, а затем порабощенное государство, сменилось много поколений, добро продолжает побеждать зло. И народ, у которого английские колонизаторы крадут не только рубины, но и свободу, продолжает бережно хранить сказочные, поэтические подробности этих побед.
Весть о слепом европейце, записывающем легенды и принимающем близко к сердцу дела и заботы Юго-Восточной Азии, опережала неторопливую поступь его шагов. Эта весть приходит и из Японии, и из Сиама, и из разных городов Бирмы. В Моулмейне, под знаменитыми королевскими пальмами, Василию Ерошенко неожиданно устраивают королевский прием. Простые люди протягивают к нему руки, чтобы прикоснуться к одежде слепого путешественника. Он идет один, без поводыря, и кажется ясновидящим, святым. Общим настроением заражаются даже англичане. Из толпы выходят миссионеры из школьного комитета и предлагают Василию Ерошенко место директора в Моулмейнской школе для слепых.
Он охотно принимает это предложение, и, может быть, именно здесь впервые начинает ощущать себя не только писателем и путешественником, но и общественным деятелем. Ему не удалось организовать школу для слепых в Бангкоке, не хватило средств, но его усилия не пропали даром, потому что были замечены. И вот ему уже предлагают место директора существующей школы, и он может применить в ней свои методы воспитания, выстраданные еще в Москве в доме Попова на 2-й Мещанской улице и продуманные много раз потом.
Бирма стала важной вехой в духовном созревании писателя. Период ученичества, период вопросов к князю Кропоткину и другим анархистам, и социалистам закончился. Отныне он и сам "князь". Должность директора, воспитателя, преподавателя захватывает его целиком, но по вечерам остается время для разговоров с людьми, которые приходят в школу посмотреть на русского и послушать его. Колониальный режим кажется незыблемым, как сама земля, англичане крепко держатся за рубины величиной с куриное яйцо, но Ерошенко находит способ доказать бирманцам, что они, сами того не подозревая, борются с англичанами.
Он им рассказывает их же собственные сказки, в которых народ не смирился, в которых народ все время оставляет своих непрошеных хозяев в дураках. Он рассказывает, и от этих бесхитростных рассказов шатаются золотые столбы рабства.
Новый директор заводит в школе порядки прямо противоположные тем, что были в Москве в доме Попова. Его ученики совершают путешествие в глубь страны. Каждый день они не отрезаны, а связаны со всем миром. Одними из первых они узнают о Февральской революции в России. Одними из первых, потому что самыми первыми были телеграфисты и полицейские чиновники. Появление русского в Стране Рубинов за несколько месяцев до революции в России связывалось в их тупых головах в одну цепочку.
Им кажется, что он вполне может оказаться хитрым агентом. Благодаря стараниям полицейских Ерошенко сразу же становится представителем русской революции в Бирме. Под окнами директорского кабинета возникает черный человек. Тень от него падает на солнце и на всех людей, которые приходят к слепому писателю. Работать становится трудно и потому, что начинают коситься миссионеры из школьного комитета, и потому, что невозможно избавиться от тупого преследования, вырваться из-под надзора черного человека, а главное потому, что нет сил оставаться в эти дни так далеко от Родины.
Когда несколько месяцев спустя колониальный телеграф отстукал известие об Октябрьской революции, Ерошенко больше не колеблется. Он бросает все и спешит в Калькутту, спешит купить билет на корабль. Но тень черного человека тащится за ним и в Индию. Портовый город Калькутта становится для Василия Ерошенко своеобразной тюрьмой. Его не берут под стражу, как других русских, оказавшихся в эти дни в Индии, но он живет на правах поднадзорного, и решетки, огораживающие территорию порта, становятся решетками, через которые сын своей Родины жадным внутренним зрением смотрит в море, в сторону России.
Три месяца провел он у этой решетки, но так и не добился раз решения на выезд, разрешения присоединиться к русской революции. В марте Василий Ерошенко возвращается в Моулмейн. Все так же шумят королевские пальмы, все так же приветливы простые люди, но члены школьного комитета уже не выходят на улицу, чтобы встретить слепого писателя. Ерошенко находит их сам. И по тому, как они ведут себя в его присутствии, по тому, как долго молчат, он догадывается, что и среди членов школьного комитета сидит черный человек. И хотя его присутствие незримо, он председательствует.
Бывшему директору школы на тот раз предлагают место скромного учителя. В противном случае слепой писатель может отправляться, куда ему вздумается.
Василий Ерошенко остается. Скромность нового положения его не пугает. Он привязался к ученикам, многих сам разыскал во время путешествий по стране и уговорил родителей отдать в школу. Теперь он беспокоится за их судьбу. Но зов родины с каждым днем становится сильнее и сильнее, и в сентябре Василий Ерошенко снова все бросает и уезжает в Калькутту. Если раньше он собирался вернуться в Россию через Индию, Афганистан и Среднюю Азию, то теперь он избирает другой маршрут - через Японию и Владивосток. Он стремится запутать черного человека, но запутать полицейскую слежку не так-то просто, и в Индии она становится особенно назойливой.
Индия
Почти три года проходят в бесконечных скитаниях. Продолжает нанизываться дорогое индокитайское ожерелье из красочных экзотических городов: Гонконг, Сингапур, Бангкок, Моулмейн, Аву, Пегу, Паган, Калькутта, Бомбей. Ерошенко покупает билет на пароход, но не успевает выхлопотать визу, и пароход отплывает без него.
Гусляр из-под Курска не теряет надежды, он осаждает английских чиновников, он требует разрешения на отъезд, он стучит палкой в окошко, где выдают визы. Чиновник опасливо отводит в сторону деревянную заслонку и, прячась в глубине, невнятно бормочет: "В отношении вас слишком много осложнений. Пока что мы не можем предоставить вам разрешение на выезд". Окошко захлопывается, где-то рядом слышится собачье дыхание черного человека. Ярошенко в ярости ударяет палкой об пол и долго стоит неподвижно с опущенной головой.
Ему невыносимо откладывать свой отъезд еще на какое-то неопределенное время, но молодость и деятельная натура не дают разрастись унынию. Если нельзя немедленно попасть в Петроград, к Ленину, то можно и город революции, и Ленина приблизить к Калькутте. Здесь на него и так смотрят, как на человека, который знает, что нужно делать, чтобы стать свободным, и Ерошенко бесконечно, не уставая, рассказывает своим новым индийским друзьям о своей Родине, о русской литературе и о желании быть там, где совершаются сейчас самые важные события.
С каждым днем слепого писателя узнает все больше и больше людей, его слава становится особенно громкой после спора с Рабиндранатом Тагором о материальной и духовной культуре. И когда однажды он пробирался по проходу в театре, разыскивая свое место, он вдруг услышал внезапно возникший шум, который прокатился по залу, как обвал. Все встали, чтобы приветствовать молча слепого русского писателя, представителя великой революции.
И он, стоя у своего кресла, не обращая внимания на черною человека, купившего место в соседнем ряду, произнес перед интеллигентами Калькутты речь, в которой сказал, что неминуемо настанет час, когда и они все, молча стоящие сейчас перед ним, выйдут на дорогу борьбы за свою свободу. В темноте, когда уже начался спектакль, индийцы благодарно жали ему руки. И черный человек не мог их всех запомнить и переписать, потому что их было очень много.
Ночью в номер гостиницы, где остановился Ерошенко, ворвалась полиция. Писателя оттолкнули к стене от его вещей и принялись рыться в бумагах. У него забрали все личные письма и разослали циркуляр, предписывающий полицейским чиновникам на почте перехватывать всю дальнейшую корреспонденцию опасного русского. Черный человек сделал все, чтобы отрезать Василия Ерошенко от мира. На этот раз Индия стала для писателя капканом. Сам он уже не мог уехать отсюда даже в Бирму. Отныне его могли только выслать или посадить в тюрьму. Некоторое время друзья Василия Ерошенко и он сам посылали письма в никуда, не догадываясь, что переписываются с полицейским управлением.
Может быть, и сейчас еще в архивах калькуттского полицейскою ведомства хранятся толстые листки картона, наколотые английской машинкой по системе Брайля. Очень жаль, если эта конфискованная переписка пропала совсем.
Василий Ерошенко стучится в двери разных учреждений, но они перед ним с шумом захлопываются, и с каждой новой дверью остается всe меньше надежд вырваться на свободу. И тогда Ерошенко принимает мудрое решение: если нельзя выехать за пределы страны, то надо воспользоваться предоставленной свободой передвижения внутри очерченного круга.
Он совершает путешествие в глубь Индии, купается в священном Ганге, с риском для жизни пробирается к древнему жертвеннику, возле которого лежит еще теплый пепел. Может быть, служители культа просто окуривали дымом своего каменного идола, а может быть, здесь под покровом ночи жестокие и невежественные брамины сожгли еще одного человека. В Калькутте и Бомбее он слышал, что, несмотря на запрет, древний обряд "сатти" продолжает в провинции соблюдаться.
Каменное изваяние, затерянное среди вековых деревьев, пахнет дымом. Бог-курильщик спрятался в чащу леса, как разбойник, чтобы потихоньку от закона получать дань человеческими жертвами. Василий Ерошенко ощупывает его широкий, ненасытный живот, пальцы скользят по шершавой поверхности плеч, но воображение отказывается нарисовать статую, похожую на человека. Слепому писателю кажется, что он ощупывает бессмысленную груду камней. Он пытается найти в этой груде лицо идола, чтобы познакомиться с ним, но не успевает дотянуться до грубо высеченных ушей и носа.
Нанятый за деньги проводник в страхе хватает за одежду своего слепого господина. Заикаясь, он лепечет, что надо уходить, пока древние индийские боги не разгневались на чужестранца. Василий Ерошенко не спорит, он нагибается, чтобы зачерпнуть на память горсть теплого пепла. Эта горсть остывающей золы, взятая рукой художника, уже никогда не остынет. Она будет все больше и больше накаляться, пока снова не превратится в костер, пока не оживет в этом костре каждая хворостинка и из дыма не возникнет лицо прекрасной женщины, напоминающее о лицах всех женщин, сожженных браминами. Жаркое пламя, возрожденное художником, больше не подчиняется богам и браминам.
Оно служит для того, чтобы освещать людям дорогу и отгонять подальше тени. Оно полыхает для того, чтобы можно туда было бросить все, что должно давно сгореть: нелепые обычаи, невежество, рабство. Василий Ерошенко по возвращении из Индии пишет именно такую сказку-костер, красочную, экзотическую. По остаткам пепла, как опытный реставратор, он воссоздает всю картину до мельчайших подробностей, но даже в сказке он не решается бросить женщину в костер.
Руками влюбленного офицера он выхватывает ее из огня. Она умрет, но умрет от кинжала, зажатого собственной рукой, она сама себя поразит в грудь. Она это сделает, потому что верит в каменного идола, считает необходимым подчиняться богам и соблюдать древние обычаи. И это самое страшное, то, против чего протестует слепой писатель.
Он назовет свою сказку "Тесная клетка". Сам Ерошенко, заточенный в клетку из вечной темноты, лучше других понимал этот образ. Люди должны были его понять, потому что они заточены в еще более тесные клетки из предрассудков и невежества. Эти клетки подчас им нравятся. Они полируют решетки, украшают замки, вместо того чтобы богатырскими руками раздвинуть прутья и выйти на свободу.
Но нет для них ничего страшнее свободы. Тигр, от имени которого ведется аллегорическое повествование, пытается указать всем дорогу к выходу. Проникнув во дворец раджи, он освобождает канарейку, но канарейка не хочет улетать в большой мир. Он пытается освободить рыбок из аквариума, чтобы они могли снова попасть в огромное, бескрайнее море, но рыбки посмеиваются над своим освободителем.
Он разрушает ограду, за которой сгрудились овцы, и предлагает им свободу, но овцы забиваются в угол своего полуразрушенного хлева и не двигаются с места. И тогда тигр понял, что для овец нет ничего опаснее свободы, что, "по-видимому, не было и для канарейки ничего страшнее свободного мира, ничего ужаснее и беспокойнее свободы, и рыбки нырнули на дно аквариума, потому что для них, рыбок, не было ничего страшнее прекрасной реки и ничего не было ужаснее и беспокойнее бескрайнего моря".
- Рабы! Рабы людей! Всюду рабы, - восклицает тигр.
И в этих словах отчаяние и гнев самого Василия Ерошенко, который в путешествиях по Востоку и европейским странам все время наталкивался на рабство - откровенное или прикрытое конституционными правами.
В этой публицистической сказке он заявляет впервые совершенно открыто о своем желании бороться с тесной клеткой. В этой сказке он выступает уже и как большой мастер. Удивительно точен сам прием, при помощи которого писатель строит свое гневное и глубоко эмоциональное повествование. Тигр лежит в клетке, он ненавидит людей, которые приходят в зоопарк.
Но потом оказывается, что это всего лишь дурной сон, что тесная клетка пригрезилась ему, а на самом деле он, могучий и сильный царь зверей, на свободе. А в конце сказки вдруг оказывается, что клетка была правдой, а приснилась ему свобода.
Сам Ерошенко чувствовал клетку все время рядом с собой. На незримых колесах ее возил в двух шагах от слепого черный человек. Вместе с этой клеткой его подняли на борт английского корабля. Его увозили из страны, как агента большевиков.
Шанхай
Слепой писатель стоял на палубе английского парохода. У него не было на ногах кандалов, а на руках наручников, но он знал, что заточен. На берег ему сходить запретили до конечного порта. А там, во Владивостоке, он должен был попасть прямо в руки белогвардейцев.
Судовой врач сочувственно отнесся к Василию Ерошенко. Он зазывает его в свою каюту, угощает крепкими напитками, расспрашивает о России. От крепких напитков корабельный узник отказывается, а о своей Родине рассказывает охотно. Ему кажется, что эти рассказы приближают его к родной земле. За полночь тянется беседа, из каюты доктора доносится бренчание гитары. Слепой писатель поет захмелевшему англичанину свою любимую песню о Стеньке Разине. Он поет ее по-русски и тут же переводит на английский язык, не всю, а отдельные, самые главные слова.
А в машинном
отделении вращается хорошо смазанное колесо, перемалывающее уголь в пар. Все
дальше уходит индийский берег, все ближе владивостокская тюрьма. В эти минуты,
признается потом Василий Ерошенко своим односельчанам в Обуховке, он чувствовал
себя как никогда одиноким и заброшенным.
Но он ошибался. Если раньше весть о приближении слепого писателя опережала
поступь его шагов, то теперь она опережает скорость парохода, идущего на всех
парах. В Сингапуре его встречают корреспонденты многих газет и журналов.
Они буквально врываются на борт судна, чтобы задать капитану вопросы своих читателей: куда и зачем везут слепого писателя? Они щелкают аппаратами, и капитан в растерянности щиплет себя за бакенбарды и то принимается позировать, то загораживает лицо руками. Он знал, что выполняет полицейскую миссию, но не подозревал, что везет во владивостокскую тюрьму такого знаменитого человека. Он не против того, чтобы его мужественный профиль попал в вечерние газеты, но он протестует против того, чтобы его называли полицейским капитаном.
Он всего-навсего выполняет поручение своего правительства. Узнав от капитана, что Василий Ерошенко не в кандалах и не в трюме, корреспонденты спешат задать свои вопросы самому писателю. Вместе со всеми спешит и корреспондент эсперантского журнала, в руках у которого небольшой сверток. Через несколько дней об этом мнимом корреспонденте и об этом свертке будут писать все газеты, а пока на него никто не обращает внимания.
Во время короткого интервью, проведенного прямо на палубе, корреспондент эсперантского журнала обменивается с Василием Ерошенко несколькими фразами, и сверток оказывается в руках у писателя. С сомнением покачав головой, он тут же пытается вернуть сверток назад, но корреспондента уже нет в толпе репортеров.
Вечером в каюте доктора Ерошенко развернет его и на ощупь определит одежду кули, шапочку с косичкой и с удивлением возьмет в руки тюбик с краской для грима. В разговоре с доктором он грустно скажет, что ему друзья предлагают сыграть роль, на которую он неспособен. А назавтра в Шанхае корабельные сходни, порт и весь город будут усилиями двух человек превращены в огромную сцену.
Доктору выпала честь участвовать в представлении в качестве гримера, а Василий Ерошенко неплохо справился с предложенной ему ролью грузчика. Свой единственный выход в театральном костюме он провел безукоризненно. Отбросил в сторону косичку, чтобы виднее была, взвалил на плечи пустую корзину и, низко согнувшись, сбежал по сходням на берег.
Это был дерзкий побег. Описывая подробности, газеты много места уделяли старой гитаре Василия Ерошенко, которая была с ним в Лондоне, Японии, Сиаме, Бирме, Индии и с которой он не захотел расстаться и теперь. На самом деле с инструментом пришлось расстаться. Он оставил гитару на корабле. И англичанин потом во время всего рейса трогал потертые струны и, вслушиваясь в них, вспоминал голос слепого русского писателя и песню о Стеньке Разине.
Снова Япония
В середине лета 1919 года в районе Синсбаси в знаменитом литературном кафе "Накамура" открылась дверь, и на пороге застыл на мгновенье светловолосый слепец с новенькой гитарой. Василий Ерошенко возвратился в Японию. Он сделал шаг вперед и опять остановился, прислушиваясь и пытаясь в шуме голосов узнать кого-нибудь из своих старых знакомых. На его губах подрагивала нетерпеливая улыбка. Он уже готов был окликнуть по именам тех, чьи голоса за три долгих года совсем не изменились, но его опередили, его узнали почти одновременно сразу несколько человек. В разных концах кафе раздались громкие возгласы удивления и радости.
У Василия Ерошенко здесь было много друзей. Они его окружили и начали обнимать. Он живо поворачивался то в одну сторону, то в другую и ловил дружеские руки, протянутые к нему. Он долго стоял и пожимал их, и этих рук было гораздо больше, чем знакомых голосов, потому что подходили и те люди, которые никогда его не видели, но которые считали своим долгом выразить уважение слепому писателю. После побега в шанхайском порту с английского корабля Василий Ерошенко стал наполовину легендой. Видеть его было событием, а прикоснуться - большой удачей.
После рукопожатий его усадили на почетное место для редких гостей и принесли еще один чайник, расписанный традиционными веточками сакуры. Говорили в кафе "Накамура" в этот день о событиях русской революции. Они встряхнули всю планету и островную империю тоже. Отчаянные люди в кожанках и буденовках качнули землю так, что с нее посыпались все, кто непрочно стоял. И мир откликнулся. Во многих концах земного шара появились люди, которые стали дружно помогать матросам и солдатам с красного материка раскачивать планету и дальше. Они не просто верили в мировую революцию, они считали ее неизбежной.
Никогда еще в Японии не было так сильно общественное движение, как в эти дни. Василий Ерошенко прибыл в Японию накануне больших событий. Его друзья задумали издание журнала: "Танэмаку хито". В первом же номере они собираются заявить о том, что пора покончить с идолами и богами. Ерошенко полностью разделяет слова декларации. Позднее он напишет сказку на эту же тему "Мудрец - время".
Люди, которые стоят на коленях в тени огромных идолов в кумирне, хотят увидеть солнце, хотят вдохнуть по глотку свежего воздуха. Но когда распахиваются окна и влетает ветер, они гибнут. Интересен мотив, появляющийся в этой сказке: люди тонут, но они не жалеют о том, что открыли окна, потому что видели солнце. И только один совет они успевают оставить тем, кто придет в кумирню после них: надо сначала разбить каменных идолов, а потом уже открывать окна и впускать солнечный свет.
Трагический мотив гибели появится позднее, а пока все идет хорошо. В огромных залах собираются японцы на митинги, организованные "Обществом пробуждения народа". Василий Ерошенко приходит на митинги со своей новой гитарой, которую он носит на плече, как винтовку. Это и в самом деле его оружие. Каждая струна натянута, словно тетива. Он выступает с русскими песнями, и слушатели жадно ловят слова того языка, на котором разговаривает с миром Ленин.
Они долго не отпускают слепого писателя, и их аплодисменты - это не только благодарность певцу, но и легальная возможность выразить свои симпатии большевикам. На одном из таких митингов в районе Мансэбаси, где в ладони ударили сразу три тысячи человек, между залом и Василием Ерошенко возникло особое понимание, особая близость. Эти шесть тысяч ладоней, в едином порыве слившиеся в один гигантский хлопок, словно бы высекли из простого шестиструнного инструмента искру.
Василий Ерошенко выпрямился, сжал гриф гитары, словно это была шашка, и, коснувшись струн, запел "Интернационал". Взволнованным, непривычно звонким голосом он бросал в зал слова революционного гимна, и какое-то мгновенье в зале была испуганная тишина. Но уже второй куплет подхватили несколько человек. А потом к ним присоединились и другие.
После этого
выступления, после "Интернационала", слепого русского писателя стали
узнавать на улице. Однажды на платформе станции Мэдзиро, где Ерошенко ждал
электричку, его тронул за локоть человек и спросил:
- Простите, вы не Ерошенко?
- Да, - живо ответил писатель, - а кто вы?
- Я художник.
Фамилия художника была Цуруто Горо. И он с чисто японской вежливостью сказал:
- Простите, что я обращаюсь к вам со столь неожиданной просьбой, но мне бы
хотелось написать ваш портрет. Не согласитесь ли вы позировать мне?
Это было очень интересное предложение, голосом Цуруто Горо с русским писателем заговорила сама Япония. Она выделила художника, который должен был запечатлеть лицо человека, прочно вошедшего в историю культуры японского народа. История всегда заботится о том, чтобы будущие поколения знали своих героев в лицо. На долю этих поколений остается только забота о сохранении портретов. А на этот раз, благодаря необычной популярности Василия Ерошенко, Япония к концу недели вместо одного художника выставила двух. Другим стал Накамура Цунэ.
Ему тоже захотелось написать портрет слепого русского писателя, и он пригласил и Ерошенко н Цуруто Горо к себе в мастерскую. Так они и работали, эти два японских художника, поместив свои мольберты с двух сторон. У Цуруто Горо не все получилось, как он хотел. Ему даже пришлось стереть первый набросок и начать все сначала. Зато для Накамуры Цунэ эта его работа стала значительным художественным открытием. В портрете главное глаза, взгляд, передающий ум и настроение, одухотворенность человеческой натуры, но Василий Ерошенко слеп, и это стало основным содержанием портрета.
Накамура Цунэ написал широко расстегнутый ворот свободной крестьянской рубашки, высокий нахмуренный лоб, щеки, в которые скорбными шрамами врезались скорбные складки, и пышные, вьющиеся как хмель, куда-то летящие волосы словно это уже не волосы, а облака. Но облака не простые - трагически тревожные, предгрозовые. Впечатление усиливалось еще и оттого, что фон сливался с волосами, служил их продолжением. Кажется, взгляни человек из-под этих облаков - и будет не взгляд, а молния, будет гроза. Но человек не может взглянуть, потому что он слеп.
Одухотворенная трагичность скорбного лица не может разрешиться взглядом. Японский художник сумел передать главное во всем облике Ерошенко - тоску по глазам, которые должны видеть, потому что ему предстояло написать много книг, а видел он так мало. В 1921 году на очередной императорской выставке появились оба портрета. Черный человек, следующий по пятам за писателем, должен был разрываться теперь на части, чтобы уследить за самим Ерошенко и за двумя его портретами, возле которых постоянно толпились люди. Начальник полицейского управления
Кавамура мог бы, конечно, к каждому портрету поставить по одному расторопному кэйдзи, но уследить за славой русского писателя он уже был не в состоянии. Чтобы иметь своего человека в каждом месте, где произносилось имя Василия Ерошенко, ему не хватило бы всей его полицейской армии, потому что это уже была слава, потому что Василий Ерошенко был везде: и на портретах императорской выставки, и в журналах, и на устах у простых японцев.
Василий Ерошенко продолжал выступать на митингах. Вечером 16 апреля 1921 года на собрании общества "Гёминкай" в зале Канда он произнес страстную речь, озаглавленную "Чаша страдания". Присутствующий на собрании Эгути Киёси, ставший впоследствии крупным писателем, записал это выступление. Вот слова, которыми писатель начал свое выступление: "С далеких времен древней Греции и Рима и до наших дней несчастные, обездоленные люди боролись, стремясь освободиться от ужасных тиранов, и не раз осушали горькую чашу страданий.
Рабы Греции и Рима стремились избавиться от своих жестоких деспотов, крестьяне Франции - от ненавистной аристократии, русские рабочие и крестьяне - от безграничного произвола в своей стране, много раз они жертвовали жизнью и осушали полную чашу горя. Нам предстоит испить новую чашу страданий. Но мы надеемся, что для несчастных и обездоленных эта горькая чаша будет последней".
А вот слова, которыми он закончил свое выступление: "Говорят; раз исчезают крысы, значит, в этом доме нужно ожидать пожара. Но на самом деле крысы потому и покидают этот дом, что в нем пожар. Говорят: муравьи бегут с плотины - быть наводнению. Но потому-то муравьи и бегут с плотины, что началось наводнение. Люди, отставшие от жизни, говорят: раз социалисты и рабочие бунтуют — значит, мир стал плох. А на самом-то деле потому и бунтуют рабочие и социалисты, что мир плох..."
Речь Василия Ерошенко показывает, что он не был таким наивным человеком, каким его изображают некоторые литературоведы на Востоке и даже у нас в стране. Он хорошо видел социальное зло и знал, что добро без борьбы не победит, и мир, который стал плох, без революции не станет лучше.
Из подобных многотысячных аудиторий, из многих кружков и профессиональных союзов возникла в Японии первая политическая организация - Социалистическая лига. Накануне ее открытия испуганное правительство в спешном порядке подписало указ о запрещении Лиги. Была запрещена и демонстрация, назначенная на 1 Мая 1921 года. Несмотря на это, Василий Ерошенко вышел вместе со всеми на улицу. И вместе с только что народившейся партией попал под удар полицейской дубинки. Черный человек уступил место мундирам из армии Кавамуры.
Полицейские ринулись на демонстрантов, стали разгонять их в разные стороны, и когда слепой писатель оказался один, схватили его, затолкали в автомобиль и повезли. Началась самая позорная страница из жизни начальника полицейского управления Кавамуры.
На императорской выставке еще висели два портрета Василия Ерошенко, в типографии печаталась его первая книжка "Песни предутренней зари", журнал "Канзо", анонсировал новую сказку слепого русского писателя, а в полицейском участке два "специалиста" раздирали ему веки. Они не верили, что он слепой. Черный человек, присутствовавший на митинге в зале Канда, донес, что, когда этот русский говорил о "Чаше страданий", он смотрел в толпу, он был зрячим.
Растерянный кэйдзи был прав. Когда Василий Ерошенко говорил, лицо его преображалось, и слушатели забывали, что перед ними слепой. Но сейчас его веки снова были тесно слеплены и никакие полицейские ухищрения не могли их разомкнуть. Никогда еще Василий Ерошенко не был так слеп, как в тот момент, когда ему в полицейском участке раздирали веки.
Смущенные очевидной неудачей (не сумели разоблачить русского шпиона), полицейские чиновники выпустили Василия Ерошенко на свободу. Но свобода эта была призрачной и длилась недолго. Спустя несколько дней после демонстрации газеты опубликовали указ об официальном запрещении Социалистической лиги, и русского писателя снова схватили и препроводили в тюрьму. На этот раз дело дошло до министра внутренних дел. Из канцелярии министерства поступило распоряжение о немедленной высылке.
Последние
дни на японской земле Василий Ерошенко провел в печали и полном одиночестве.
Друзья пытались с ним увидеться. Они принесли ему передачу, но маленький
сверток с едой вытолкнули назад из окошка: "Мы кормим его так, чтоб он
только не сдох от голода", - объяснил озлобленный чиновник.
Хозяин дома, где жил Ерошенко, господин Сома, пришел с просьбой отпустить
писателя, чтобы тот смог уложить перед отъездом свои вещи, но ему ответили:
- Уложит свои вещи в полиции. Книги и рукописи, привезенные господином Сома в полицейский участок, дежурный бросил прямо на грязный пол. Вещи раскатились в разные стороны, и Василию Ерошенко пришлось ползать на коленях по полу и на ощупь собирать свое нехитрое имущество. Писателю не хотелось терять ни одного журнала, ни одной книжки, и он суетливо обшаривал растопыренными ладонями пол и много раз натыкался на тупые носы ботинок дежурного. А тот стоял над поверженным русским писателем и смотрел сверху с любопытством. Нет, никогда и нигде Василий Ерошенко не был таким слепым, как в полицейском участке перед отъездом из Японии.
4 июня 1921 года его под конвоем, как самого опасного государственного преступника, отвезли в порт Цуруга, и, грубо подталкивая сзади, заставили подняться на борт парохода "Ходзан-Мару". Пароход еще стоял в порту, но Василий Ерошенко уже навсегда покинул землю Японии. Никто из друзей не пришел его проводить. До последнего мгновенья он ждал, что кто-нибудь появится и протянет шелковую ленту. Так было, когда он уезжал первый раз из Японии. Тогда, стоя на палубе парохода, он держал в руках более трехсот лент, и за каждой лентой, которая подрагивала и уходила наискосок от других солнечным лучом к берегу, был человек, друг.
А сейчас - никого, кроме корреспондента газеты "Асахи-Симбун" и переводчика из порта. Только эти двое и пожали ему руки, когда раздалась команда провожающим покинуть судно. Все провожающие заторопились, и остался Василий Ерошенко на палубе с полицейским. Он должен был провожать писателя все четыреста пятьдесят миль до Владивостока. С горечью писал Василий Ерошенко: "Стоя у поручней, я до последней минуты надеялся, что кто-нибудь придет со мной проститься. Но напрасно... Никто так и не приехал. Быть может, они не смогли, а быть может, решили, что не стоит приезжать прощаться". Позднее он узнал, что его друзей не пустили в порт.
Владивосток
Японская полиция выбрала "подходящий момент" для высылки Василия Ерошенко во Владивосток. 26 мая белогвардейцы совершили переворот, а через несколько дней, четвертого июля, пароход "Ходзан-Мару" уже отчаливал из порта Цуруга. Двухдневное плавание по Японскому морю прошло без особых происшествий, и шестого числа в восемь часов утра из тумана стали вырисовываться очертания Владивостокского порта.
С этим пароходом возвращались из Америки на родину и русские рабочие. Они столпились у борта, они жадно вглядывались в портовые улочки, они спешили возвратиться туда, где пролетариат взял власть в свои руки, но красных флагов не было видно. Василию Ерошенко передалось замешательство рабочих, по негромким растерянным репликам он составил себе представление о трехцветном флаге, развевающемся над городом, в котором власть захватили купцы братья Меркуловы.
Спустя некоторое время к борту подошел катер с трехцветными чиновниками. Началась проверка документов. Вместо Василия Ерошенко к чиновнику портовой администрации подошел полицейский, сопровождавший писателя, человека с "опасными мыслями". Он передал его с рук на руки и исчез из поля зрения, даже не попрощавшись. Но чиновник Приамурского временного правительства отнесся несерьезно к своим временным обязанностям. Он только спросил:
- Кажется, вы социалист? Надеюсь, не большевик?
- Большевизм я пока только изучаю, - ответил уклончиво Василий Ерошенко.
Чиновник с любопытством посмотрел на писателя. Слепой человек с высоким лбом и пышными белыми волосами не показался ему опасным. К тому же у него были и свои соображения на этот счет. Он работал под трехцветным знаменем, в петлице у него красовалась трехцветная эмблема, но он не считал себя ярым врагом большевиков. Он был всего-навсего обывателем и только.
Эти три цвета в петлицах, на шляпах и на знаменах устраивали его именно потому, что позволяли оставаться ни белым, ни красным, а чем-то средним. И чиновник отпустил Василия Ерошенко на берег. Проявив жалость к слепому, он даже не взял с него налог за противочумную прививку и пошлину за проездные документы.
Во Владивостоке эсперантисты быстро нашли Василия Ерошенко. Писатель обрел приют в доме председателя эсперантского общества. Тот отнесся к своему неожиданному гостю радушно, но и председатель исповедовал все ту же трехцветную философию. Он вычитывал из газет, что повсюду побеждает белая армия, сообщал регулярно эти новости Василию Ерошенко и отговаривал от поездки в европейскую часть России.
Но никто не мог остановить на полпути писателя, который давно выбрал свой цвет знамени. 11 июня Василий Ерошенко покинул Владивосток. Ехать ему пришлось в поезде в одном купе с офицерами-семеновцами и солдатами из армии генерала Каппеля. Это соседство было неприятно, и неожиданно для себя на вопрос одного из офицеров, что думают в Японии об армии генерала Семенова, Василий Ерошенко с несвойственной ему резкостью ответил:
- Видите ли,
большинство японцев считают Семенова доверчивым дураком...
Ответ взбесил офицеров-семеновцев и, если бы не вмешательство солдат и девушки,
которая ехала вместе с писателем, дорого могли бы обойтись ему такие слова. К
счастью, совместная поездка в одном купе с врагами длилась недолго. Дальше Евгеньевки
пассажирские поезда не шли. Василий Ерошенко выбрался из вагона на станции, где
всем распоряжались японцы, и стал выяснять возможность дальнейшего путешествия.
Такой возможности не было, но отсюда японцы перегоняли на станцию Уссури
товарный порожняк, и писатель решил попытать счастья на товарняке.
Вместе с девушкой и двумя мальчишками ему удалось незаметно забраться в пустой вагон, и, спрятавшись за мешками со щебнем, они доехали до конечного пункта, до границы. Здесь два мира стояли лицом к лицу по обе стороны реки Уссури, и их соединял один полуразрушенный мост. Только что закончились переговоры между представителями японцев и Красной Армии, стороны не пришли ни к какому соглашению, и теперь на том берегу и на этом армии начали готовиться к сражению.
Василий Ерошенко попытался уехать из японской зоны до начала боевых операций, но у него ничего не вышло. Он решил переждать события. Несколько дней жил в деревне в гостях у девушки-попутчицы, но тут до Уссури как раз добрались рабочие, с которыми писатель прибыл во Владивосток на пароходе "Ходзан-Мару". Они не хотели откладывать свидание с родиной ни на один день, и Василий Ерошенко присоединился к ним. Со станции отправлялся специальный поезд, принадлежащий Советской России, и рабочим удалось посадить в этот поезд стариков и Василия Ерошенко.
Сами же они наняли несколько подвод и отправились через тайгу на подводах. Вечером следующего дня все снова встретились в Имане. Но встреча была безрадостной. Множество лазутчиков с письмами от разных "генералов-освободнтелей" пытались проникнуть в эти годы в центральную часть России, и люди, охраняющие завоевания революции, были очень осторожны.
Они хотели бы поверить рассказам слепого, но не имели права себе этого позволить. Уж больно фантастической и неправдоподобной в этих рассказах выглядела его жизнь. Позднее Василий Ерошенко написал очерк "Прощай, Япония" и закончил он его грустными словами: "Как это ни печально, мне не разрешили проезд, а рабочих, так стремившихся попасть домой, отправили на прииски".
Снова Шанхай
Василий Ерошенко возвратился во Владивосток. Над уличной толпой свисали с балконов и шелестели, как и в день приезда, трехцветные флаги. Василий Ерошенко не мог найти места среди враждебного шелеста. Он начал подумывать об отъезде в Китай. Замыслил еще один побег, на этот раз с "корабля" братьев Меркуловых. Шанхайские эсперантисты, к которым он обратился с письмом, прислали приглашение, и он уехал со смутным чувством горечи и утраты.
Ощущение потери Родины и друзей было настолько сильным, что шанхайскую осень он воспринял не только как время года, связанное с увяданием и запустением, а как время жизни, связанное с безнадежностью и концом. Первые дни в Шанхае он больше вспоминал прошлое, чем думал о будущем. Одиночество преследовало его повсюду, даже на шумном рынке. А когда ему приходилось проходить по главной улице, где были театры, бары, игорные дома, он чувствовал себя здесь более одиноким, чем "среди пустынных хребтов Гималаев".
Он пытался найти успокоение в мечте, начал писать сказку "Страна Радуги", но из этой сказки получился суровый, безнадежно печальный рассказ о самом себе и маленькой девочке Хиноко. Хорошая это была девочка. Никогда она не обижала свою кошку Тама-тян и была внимательна к своей кукле Куми-тян. Но вот девочка тяжело заболела, ее болезнь - голод. Она приговорена к смерти, ничто ее не может спасти. И тогда добрый слепой сказочник Василий Ерошенко силой своей фантазии, силой своей мечты прекратил дождь, идущий за окном вот уже третий день, и зажег в небе самое яркое солнце.
Он выстроил для Хиноко мост из радуги, который одним концом уперся в страну мечты, а другим - в подоконник того окна, за которым умирала девочка. И когда Хиноко ступила на мост, чтобы идти в страну Радуги, где много работы для ее отца и матери, много игрушек для всех и много еды, радуга под ней не прогнулась. Этот радужный мост под ней не прогибался потому, что он был выстроен из доброты Василия Ерошенко, потому что этот мост писатель поддерживал своей спиной.
Он хотел, чтобы все маленькие девочки имели много игрушек и много еды и чтобы они не умирали, а переходили по его мосту в страну радости. Но одному даже очень доброму человеку с самой широкой спиной на свете не удержать на своих плечах такой мост. И когда он будет писать заключительные абзацы сказки в своей пустой шанхайской комнате, за окном которой идет дождь, у него опустятся руки, опустятся плечи, и мост рухнет. Рукой реалиста он поставит последнюю точку. Никакой радуги нет, никуда Хиноко не ушла, она умерла, а перед смертью ей привиделась эта сказочная дорога.
Смерть девочки кажется особенно страшной и несправедливой, потому что на губах ее застыла улыбка, последняя и единственная в жизни улыбка несбывшейся мечты. Сказка закончена, а дождь за окном все идет, и шанхайская, самая печальная в его жизни осень все продолжается. По ночам Василию Ерошенко не спится. Чтобы ощутить хоть кого-нибудь рядом, услышать хоть чей-нибудь голос, он кладет на подушку часы. Мерный стук механизма заменял ему собеседника. Иногда такие "собессды" длились до самого утра.
А утром, едва он выходил из дома, его встречало пасмурное холодное небо и дерево на углу, стучавшее голыми ветками. Около этого старого и мудрого дерева он всегда останавливался, чтобы прикоснуться к нему, прислушаться. В первые дни после приезда дерево шумело могучей кроной, и на плечи, и под ноги летели листья. С каждым днем их становилось все меньше и меньше пока не начался этот холодный безнадежный стук и треск окоченевших сучьев. Чем было холоднее новое утро, тем дольше стоял Василий Ерошенко у дерева и внимательнее прислушивался.
Он хотел узнать: остался ли хоть один лист на нем? И каждый раз ему чудилось, что остался, что шуршит и звенит во время порывов ветра где-то там наверху. Он и сам себе казался вот таким же одиноким листом, только оторванным навсегда от своего дерева. Однажды и этот последний лист тоже оторвался. Василий Ерошенко принес его на шляпе домой. Он обнаружил лист, когда начал снимать шляпу. Взял его в руки и подумал о том, что, вероятно, дерево на углу за свою жизнь повидало немало горького и если бы этот лист умел разговаривать, он бы много мог поведать.
А почему бы ему и в самом деле не заговорить? И лист заговорил. С этого дня у Василия Ерошенко появился новый собеседник - засохший лист. И он начал писать новую книгу "Рассказы засохшего листа". На этот раз книга действительно состояла из рассказов, а не из сказок, как раньше. Сказочным осталось только обрамление, образ говорящего дерева, а все истории, поведанные им человеку, были написаны в простой повествовательной манере с выходами в публицистику, порой чуть ли не с прямым обращением к читателю.
Василий Ерошенко писал свою книгу в холодном Шанхае, в полном одиночестве, только стук часов и засохший лист помогали ему жить, думать, мечтать. Но он и здесь продолжал выступать все с той же высокой трибуны, на которой пел "Интернационал" и говорил о "Чаше страданий". Он предельно эмоционален, даже сентиментален, но странно: это последнее качество его рассказов не мешало, а, наоборот, придавало его историям особую достоверность.
В этих рассказах было много традиционной восточной вежливости, обязательных полупоклонов и уменьшительных суффиксов. Брат превратился в братика, ноги женщины - в маленькие ножки, большое старое дерево на углу - в "милое дерево с зелеными листочками". Но содержание рассказов таково, что уменьшительность и ласковость только подчеркивали ужасающую китайскую действительность.
Вот один из таких рассказов. Девочка пришла к дереву поделиться своей тайной. Она жила с дядюшкой и тетушкой. И был у нее больной братик, который кашлял кровью. Раньше с ними жили еще две сестры, но старшую продали, чтобы похоронить отца, а среднюю продали, чтобы похоронить матушку. Теперь подошла очередь младшей сестры. Ее тоже хотят продать, а на вырученные деньги собираются отвезти братика к знаменитому врачу.
Но братик не согласился. Он знал то, что неизвестно было его маленькой сестре: девочек продавали в публичный дом. К тому же он заметил, что и она, его милая сестренка, тоже стала кашлять. Значит, и она заболела, значит, и ее надо лечить. А денег на лекарства для двух человек тетушке и дядюшке негде взять. И он начал обманывать свою сестренку. Каждый вечер они разыгрывали и карты, кому пить горькое противное лекарство, и почему-то всегда пить его доставалось девочке. Вот ее главная тайна, с которой она пришла к дереву. Она очень любила братика и потому обманывала тетушку и дядюшку и пила за него горькое, противное лекарство.
Девочка просила у дерева несколько листочков, чтобы сплести венок для больного братика. Но благородный маленький человек, добровольно отказавшийся от лекарства ради своей сестры, уже мертв. И венок ему пригодился уже мертвому. А сестренку продали в публичный дом, чтобы похоронить его.
Шесть человек было в этой китайской семье. Трое умерли от болезней и голода, а троих продали, чтобы получить деньги на похороны. Жестокая действительность, не убившая в маленьких людях великой наивности и великого благородства. Чаша страданий простых людей переполнена, и каждым своим новым рассказом из этого цикла Василий Ерошенко говорил, что так дальше продолжаться не может.
В творчестве Василия Ерошенко "Рассказы засохшего листа" стали одной из главных его книг. Но вместе с тем они отразили и его душевный разлад в этот период. Он мог бы написать рассказы на японском языке, но Японию у него отняли. Он хотел бы написать их по-русски для русского читателя, но Россия была далеко. И тогда он написал свою книгу на языке, у которого не было родины, - на языке эсперанто. Ему казалось, что это единственный выход в его положении. Но это было только иллюзией. Человек не может жить и творить без Родины, даже если и изобретен такой безродный язык.
И первая же страница новой рукописи возвратила Василия Ерошенко к самому себе, потому что независимо от того, что он хотел, "Рассказы засохшего листа" начались с главы, которая называется "Страна мечты". Он снова мечтал, он снопа искал дорогу в ту страну, откуда родом. "Снился мне остров Счастья, - писал он в этой главе, - среди моря Вечной Любви. Есть на этом острове залив Неизменной дружбы, и течет в него прекрасная река Неиссякаемой Радости.
Расцветают на острове чудесные цветы Искренности и Доверия, повсюду растут деревья Добродетели. Высится там гора Свободы, восходит над островом солнце Истины и луна Справедливости, сияют дивные звезды Искусства".
Читатели "Рассказов засохшего листа" без труда угадывали в этой стране мечты страну, где совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.
Это произведение, написанное на языке эсперанто, вывело Василия Ерошенко в разряд новых классиков эсперантской литературы. И еще до того, как книга увидела свет, он получил место преподавателя этого языка в Шанхае. А на горизонте уже маячил Пекинский университет.
Пекин
После того как Василий Ерошенко покинул Японию, буквально спустя несколько месяцев в Токио вышла в свет его первая книга "Песни предутренней зари", а затем и вторая - "Последний вздох". Вторая книга словно бы и в самом деле символизировала последний вздох слепого писателя по Японии.
Он уехал немного раньше, чем пришла к нему подлинная писательская слава. Но для славы нет никаких преград, ее не в состоянии арестовать даже сам начальник полицейского управления Кавамура. И слава русского писателя на кораблях вместе с почтой и в чемоданах пассажиров поплыла в разные страны. Добралась она и до Пекина, до тихой улочки Бадаовань, где жил Лу Синь.
Однажды утром ему в руки попала книга: "Песни предутренней зари". Большому китайскому писателю и раньше приходилось читать в периодической печати сказки Василия Ерошенко, но сейчас, собранные все вместе, они произвели на него ошеломляющее впечатление. Не успела забыться первая книга, как в руки Лу Синю попадает и вторая. И сказки в ней также были хороши и произвели такое же удивительное впечатление. Лу Синь отложил до половины написанный рассказ и сел за перевод с японского.
Он решил познакомить китайских читателей со сказками слепого русского писателя, а заодно и с его печальной судьбой изгнанника. В сентябре 1921 года на страницах литературного приложения к газете "Чэнь бао" появилась впервые фамилия Василия Ерошенко. Предисловие к сказке "На берегу" написал Лу Синь почти целиком в превосходной степени. Большой мастер, знающий цену словам, не поскупился и сравнил автора двух книг, только что вышедших в Японии, со звездой, о существовании которой люди еще ничего не знают. Он пожелал им узнать Василия Ерошенко и полюбить его "большую душу". Две книги, изданные в Японии, он назвал двумя подарками.
Таким образом, еще до того, как Василий Ерошенко ступил на китайскую землю, о нем благодаря усилиям Лу Синя уже многое было известно. Не осталось ни для кого секретом и его появление в Шанхае осенью 1921 года. В то время, как он ходил по шумной Синьшицзе, которая, несмотря на обилие увеселительных заведений, казалась ему пустыннее хребтов Гималаев, о нем уже шла оживленная переписка между Пекином и Шанхаем. Инициатором был Лу Синь.
Он спрашивал у редактора журнала "Сяошо юебао" Мао Дуня и известного литератора, и переводчика Ху-юй-чжи, как живет слепой русский писатель в шумном городе? Мао Дунь, воспользовавшись большой заинтересованностью Лу Синя, заказал ему перевод сказки Василия Ерошенко "Мировое бедствие", и в январе 1922 года эта сказка появилась на страницах журнала уже в Шанхае. Одновременно с этим русского слепого писателя продолжали печатать в японских периодических изданиях.
Звезда Василия Ерошенко разгоралась все ярче и ярче. Только в Европе люди еще не видели этой звезды. Напрасно Ху-юй-чжи писал в предисловии к третьей книжке, "Стон одинокой души", готовящейся к изданию в Шанхае: "Мы надеемся, что благодаря этой небольшой книжке изящный талант слепого поэта станет так же широко известен на Западе, как и на Востоке..." Нет, выйдет еще много книг и в Японии, и в Китае. Появится даже трехтомное собрание сочинений, японский профессор Такасуги Ичиро издаст любовно подготовленную монографию, а запад будет продолжать хранить молчание. И на Родине писателя не скоро еще узнают о своем знаменитом земляке.
Переводы сказок и оживленная переписка между столицей и шанхайскими литераторами завершились приглашением Василия Ерошенко переехать в Пекин. Лу Синь работал в это время в министерстве высшего образования, и он устроил ему приглашение вполне официальное от Пекинского университета. Его звали преподавать язык эсперанто.
Вместе с официальным письмом Василий Ерошенко получил приглашение и лично от Лу Синя. Встреча произошла в просторном доме на улице Бадаовань, и Лу Синь уже ни на одну минуту не захотел расстаться со своим русским другом. Дом китайского писателя на долгое время стал домом и для Василия Ерошенко. Теперь ему не надо было класть рядом на подушку часы, чтобы иметь собеседника, к нему приходил Лу Синь, и они разговаривали ночи напролет и не могли наговориться.
В университете Василия Ерошенко встретили без обычной настороженности, которая сопутствует всегда появлению нового преподавателя. Студенты его восторженно приветствовали, профессора очень серьезно и уважительно пожимали руки, администрация выделила рикшу для путешествий по городу. Но разве мог он сесть в коляску, в которую запряжен человек? Пекин отныне имел возможность увидеть совсем другое отношение к своим порядкам и традициям.
Каждый день прибегал за своим господином рикша, и каждый раз Василий Ерошенко отказывался занять место в коляске, место господина. Он шел по мостовой рядом с назначенным к нему университетской администрацией слугой, а позади катилась пустая коляска. Иногда он тоже брался за оглоблю и помогал рикше везти по улицам Пекина не просто коляску, а протест.
Один из рассказов о рикше им был назван с беспощадной точностью: "Лошадь, которая зовется человеком". Этот рикша, как и девочка, у которой была тайна, пришел к старому мудрому дереву за советом. Он разжал руку и показал на ладони прохожим и дереву зубы, выбитые господином. Он спрашивал у дерева и у прохожих, сколько же еще лет ему оставаться лошадью, запряженной в повозку господ? Но никто ему не мог ответить на этот вопрос, даже дерево. И он обнял старый ствол, прижался щекой к шершавой коре и умер. Полицейский врач засвидетельствовал скоропостижную смерть от разрыва сердца.
И оно действительно разорвалось. Но отчего? Он ненависти к тем людям, которые сделали лошадью человека. Неожиданный, не очень мотивированный поворот сюжета показывал, с какой яростью клеймил Василий Ерошенко тех людей, которые ездили на себе подобных. Его герой рикша с такой силой возненавидел своих седоков-господ, что сердце его не выдержало этой ненависти и разорвалось.
Мог ли после такого своего рассказа Василий Ерошенко ехать в коляске? Не мог, потому что это был человек и писатель, у которого слова никогда не расходились с его поступками. Так, дорога от улочки Бадаовань до университета превращалась в огромную трибуну с многотысячной аудиторией, перед которой слепой русский писатель, не произнося ни одного слова, продолжал говорить о переполненной чаше страданий народа.
В Пекине обида на пограничный кордон, не пропустивший его к Ленину, понемногу забылась, и Василий Ерошенко снова начал ощущать себя гражданином своей Родины. Он снова начал исполнять песню о Стеньке Разине на многочисленных митингах и собраниях. Лу Синь, очарованный бунтарским пафосом песни, пересказал ее на китайский язык и опубликовал перевод в приложении к газете "Чэнь бао". Жизнь и творчество двух писателей переплелись в это время самым тесным образом.
Окна их кабинетов выходили в один общин двор, и они каждую ночь светились до самого позднего часа, как два маяка. То Василий Ерошенко выйдет подышать свежим воздухом и послушать тишину: постоит под светящимся окном своего китайского друга, порадуется, что тот работает, и не станет ему мешать. То Лу Синь выйдет посмотреть на звезды, да забудет поднять голову, потому что увидит светящееся окно своего русского друга, заглядится в него и задумается. Его многое продолжало удивлять в этом человеке, удивляло и то, что Василий Ерошенко работал всегда при ярком свете лампы.
Слепой писатель очень был чуток к солнцу, к яркому свету, и ему лучше работалось, когда он слышал потрескивание фитиля и ощущал кожей, как свет разрывает вокруг него темноту.
В Пекине Василию Ерошенко жилось хорошо. Обласканный Лу Синем и его близкими, он впервые за многие годы почувствовал теплоту домашнего очага. И, может быть, именно поэтому тоска по Родине стала особенно острой в Пекине. Эта тоска приняла форму тишины. Василий Ерошенко перестал замечать звуки, которыми жил большой китайский город.
- Тишина, тишина, как в пустыне, - жаловался он Лу Синю,- нет даже лягушек. Во дворе дома на улице Бадаовань прямо перед окном Василия Ерошенко давно был вырыт небольшой бассейн, всего три чи в длину и два в ширину. Джун Ми, родственник Лу Синя, собирался здесь разводить лотосы, но из этой затеи ничего не вышло. Вода в бассейне зацвела и покрылась зеленой ряской. Василий Ерошенко часто открывал окно и прислушивался к бассейну, но бассейн молчал, лягушки не квакали, их здесь не было. А вот на Родине, в далекой Обуховке, в каждой луже после дождя раздавалось их прекрасное кваканье, а если спуститься к реке, то можно было услышать лягушачий концерт, лучший в мире.
Деятельный писатель не хотел мириться с подступающей к горлу тишиной. Если нельзя попасть на Родину, то можно ведь сделать что-нибудь, чтобы приблизить ее к себе. И Василий Ерошенко отправился в дождь вдоль пекинских каналов с мутной водой на поиски головастиков. Мальчишки ему наловили их целую банку. Он принес их домой и выпустил в воду у себя под окном. Теперь каждый день помимо больших и важных дел у Василия Ерошенко появилось маленькое, но неотложное дело - справляться, как растут головастики.
- Господин Ерошенко, у них ноги выросли, - сообщали ему его помощники-мальчишки, и он радостно улыбался.
А однажды во дворе появилась шумная стайка цыплят. Василий Ерошенко уговорил жену Джун Ми заняться разведением кур. Двор на улице Бадаовань становится совсем похожим на двор в далекой России, где вырос маленький Вася Ерошенко. И крестьяне теперь стали чаще сюда заходить. Они приносили живых цыплят, и каждый раз у них в этом дворе покупали по нескольку штук. Цыплята ведь недолговечны и часто болеют. А как-то один крестьянин принес вместо цыплят утиных детенышей, и по двору начали бегать четыре утенка. Жена Джун Ми хотела их покормить, но когда она вынесла им немного холодного риса, то увидела, что утята забрались в бассейн и лакомятся головастиками, теми самыми головастиками, у которых уже выросли ноги.
Так и не удалось Василию Ерошенко услышать кваканье лягушек в Пекине. Но зато без этого бассейна не родилось бы двух прекрасных рассказов. Один называется "Утиная комедия", и написал его Лу Синь в память о гостившем у него русском писателе. В "Утиной комедии" он рассказал все, как было: и про тишину, и про головастиков, и про то, как Василий Ерошенко уговаривал жену Джун Ми разводить верблюдов и выращивать во дворе капусту.
Другой рассказ называется: "Трагедия цыпленка". И написал его Василий Ерошенко. Здесь реальные события предстают в аллегорическом сказочном виде. Цыпленок, оказавшись в обществе утят, начинает тосковать. Он ничего не ест, худеет с каждым днем и все расспрашивает утят о том, что они испытывают, когда плавают. Хозяйка пыталась его лечить от странной болезни, но однажды утром цыпленок прыгнул в пруд и утонул.
Он не умел плавать, но ему так хотелось испытать то, что испытывают другие птицы.
Хозяйка осудила его: "Я думаю,- сказала она,- что цыплята должны играть с цыплятами, а утята - с утятами". Утенок же выразился еще определеннее. "Не уметь плавать, не любить рыбу и все-таки прыгнуть в пруд - это ужасная глупость".
В "Трагедии цыпленка" трудно найти прямую параллель с жизнью Василия Ерошенко. Но отдаленные мотивы все же уловить можно.
Это ему, маленькому Васе, наставники в школе слепых говорили, что утята должны играть с утятами, а цыплята - с цыплятами. Это он, яростно боровшийся со слепотой и силой духа преодолевший темноту вокруг себя, много ран стоял перед рекой жизни, как цыпленок среди утят. Но главным в рассказе было настроение грусти. Ему не хотелось соглашаться с хозяйкой и наставниками, которые твердили, твердят и будут твердить, что цыплята должны играть с цыплятами, а утята - с утятами.
Но в минуту отчаяния, в минуту тоски по родной Обуховке в центре России, по лягушачьему кваканью, он почти готов с ними согласиться. Об этом говорил финал печальной аллегории. Хозяйка не знает, чем болен ее странный цыпленок. "Его болезнь непонятна, она похожа на то, чем болеют люди, но ее нелегко распознать", - удивляется она. Но когда сегодня мы читаем рассказ, то болезнь самого Ерошенко нам определить нетрудно. Это - ностальгия.
"Трагедия цыпленка" - единственный рассказ, написанный им за все время пребывания в Пекине. После этой аллегории болезнь приняла настолько острую форму, что он уже не мог больше писать на чужбине и не мог ни о чем думать, кроме возвращения на родину. Лу Синь его не отговаривал, и осенью 1922 года Василий Ерошенко уехал сначала на международный конгресс эсперантистов в Хельсинки, а затем и в Россию.
Возвращение в Обуховку
В Страну мечты Василий Ерошенко приехал весной. Преодолев по железной дороге много километров, он, наконец, добрался до простой крестьянской телеги, которая повезла его, медленно поскрипывая, из Старого Оскола в Обуховку. Забытые звуки и запахи родного края оживали за каждым поворотом. Лес шумел так проникновенно, что Василий Ерошенко попросил остановить телегу, и, отойдя от дороги немного в сторону, обнял ствол березы и какое-то мгновенье стоял, прижавшись щекой к ее гладкой коре. Слезы возвращения, слезы радости были у него на глазах.
Весть о приезде Василия Ерошенко быстро распространилась по деревне, в избу набились соседи, и начались бесконечные рассказы о путешествиях по далеким странам. Они длились всю весну, лето, они продолжались осенью и зимой. Обо всем рассказывал Василий Ерошенко, кроме одного. Никто из его тогдашних слушателей не мог вспомнить потом, чтоб он хотя бы обмолвился, что там, где он был, в Японии и Китае, издано много его книг, что он - знаменитый писатель.
Он уехал отсюда одним из многих и возвратился назад таким же простым человеком. Имя, приобретенное на Востоке, никому ничего не говорило в России, а особенно в его родной Обуховке. Василий Ерошенко с поразительной легкостью расстался со славой. Он охотно стал снова просто Васей для своих односельчан, родных и близких. Он лечился здесь от застарелой ностальгии. Каждый день, словно на свидание, ходил к трем дубам, что росли на краю леса.
Около этих деревьев он подолгу сидел в высокой траве и слушал птиц. Лицо его с каждым днем все больше светлело, а Мане Бычковой, застенчивой соседской девушке, оно казалось святым. Маня украдкой подглядывала за Василием Ерошенко со своего огорода и терялась, не знала, что отвечать и что делать, когда он обнаруживал ее присутствие и окликал по имени. Не в силах противиться самой себе.
Маня много раз приходила к нему к трем деревьям. Ей казалось, что она стоит совсем тихо, но, видимо, не так-то просто было унять громко стучавшее сердце, и Василий Ерошенко всегда безошибочно узнавал, что она пришла. Она так и не подошла к нему ни разу, их руки так никогда и не встретились. И все-таки это была любовь, трогательная, светлая, которая принесла много радости Василию Ерошенко.
Может быть, и он не уехал бы никуда из Обуховки до конца своих дней и дождался бы, когда Маня преодолеет в себе самой ту черту, за которой все будет легко и радостно, но в их отношения вмешался случай. Слава, с которой он уже совсем было распрощался, еще раз нашла его. В Нюрнберге должен был собраться XIV международный конгресс эсперантистов, и Василий Ерошенко получил приглашение участвовать в нем. Он уехал из Обуховки и уже не вернулся назад, остался после возвращения с конгресса жить в Москве.
Москва
Деревенские каникулы, безмятежные прогулки в лесу - все это кончилось. Пришла пора включаться в работу. Обсудив разные возможности, Василии Ерошенко решил, что писатель, составивший себе имя на японском и китайском языках, не может ни на что претендовать у себя дома, где у него пока нет читателей. Коммунистическому университету трудящихся Востока требовались люди, хорошо знающие японский язык, и Василий Ерошенко поступил туда простым переводчиком.
Работа переводчика захватила Василия Ерошенко целиком. Он переводил на японский язык книги и статьи Ленина и через них приобщался к переменам, происшедшим в его отсутствие в России. Вначале у него совсем не оставалось времени для личного творчества, затем он начал выступать со статьями по вопросам, связанным с положением слепых за рубежом и в Советском Союзе.
Он не рассчитывал на художественный успех, его цель была проще и понятнее: он хотел своими статьями способствовать тем переменам, которые принесла всем людям революция. Стиль его первых статей на русском языке был аскетичен и прост. Он не создавал в эти годы значительных произведений, но все его выступления в советской печати были пронизаны заботой о людях.
Как и везде, у Василия Ерошенко за очень короткое время появилось много друзей и в Москве и в провинции, куда он выезжал по командировкам общества слепых. В его комнатке на 2-й Мещанской улице каждый день и каждую ночь кто-нибудь гостил. Своим гостям он постоянно уступал единственную кровать, а сам спал на полу. Но вскоре одной кровати стало мало, пути разных людей из разных городов скрещивались в этой комнатке, а спать им было негде. И тогда Василий Ерошенко построил трехъярусные нары.
Никогда еще ни в одной московской квартире на семи квадратных метрах не помещалось столько гостей, сколько их было почти ежедневно у слепого писателя. Этот человек год за годом не уставал расточать свою удивительную щедрость. Если оказывалось, что приехал еще один гость, а места ему в комнате 737 найти никак не удавалось, Василий Ерошенко оставлял его у себя, а сам уходил к знакомым. Конечно, его щедростью злоупотребляли, но он этого даже не замечал. Человек, сделавший своей целью счастье других, не вправе был обижаться, если люди иногда поступали не так, как хотелось.
Так он думал и так жил. Занятый будничными делами, чувствуя, что приносит ощутимую пользу, он совершенно забыл о том, что был знаменит. Иногда ему все это казалось далеким сном, прекрасным и тревожным. Л между тем в эти годы слава его на Востоке ширилась. В Токио появилась еще одна книга: "Ради человечества", Шанхайский институт пропаганды эсперанто напечатал другую книгу: "Стон одинокой души". Отдельным изданием вышла пьеса "Облака персикового цвета", вышли, наконец, сказки, собранные в одну книгу и озаглавленные просто и точно: "Сказки Ерошенко".
Журналы Японии и Китая продолжали публиковать отдельные произведения. Но восточные литературные новости в эти трудные годы не достигали Москвы, терялись где-то по дороге. И Василий Ерошенко жил в неведенье и думал о своей судьбе совсем не так, как она в действительности у него складывалась.
В конце 1925 года он впервые в России напомнил о себе как о писателе. Вместе с Всеволодом Рязанцевым он появился на одном из Никитинских субботников и вскоре стал членом этого литературного общества. Причем одну рекомендацию ему дала сама Евдоксия Федоровна Никитина, которой он рассказал все подробно о своей жизни на Востоке. Благодаря Никитинским субботникам Ерошенко приобрел некоторую известность в литературных кругах Москвы.
Появился еще один портрет слепого писателя. Его написал художник Е. Кацман. Но эта известность была не настоящая, не подкрепленная книгами на русском языке, и поэтому она быстро превратилась в ничто. И однажды Василий Ерошенко исчез из поля зрения литературных кругов. О нем легко и просто забыли. Трудно сказать, почему так получилось, скорее всего, он сам устранился, осознав свою трагедию, трагедию русского писателя, который написал все свои книги в другой стране и на другом языке.
В канун десятилетия Октября в Советский Союз приехал с делегацией японских коммунистов Акита Удзяка, старый друг и редактор первых двух книжек Ерошенко: "Песни предутренней зари" и "Последний вздох". Встреча произошла случайно 7 ноября на Красной площади. Впрочем, Акита Удзяка приехал специально, чтобы присутствовать на празднике, а Василий Ерошенко в этот день не мог не прийти к Мавзолею Ленина. Если им и суждено было встретиться, то только на Красной площади. Литературные новости Востока, наконец, попали в Москву вместе с делегацией японских коммунистов, но это были печальные новости. Акита Удзяку рассказал, что в Японии идет борьба с "опасными мыслями", уничтожаются и книги слепого русского писателя.
Так в конце 1927 года Василий Ерошенко узнал, что официальные власти зачеркнули его имя на Востоке. Перед ним была невеселая перспектива начинать все сначала. Впрочем, он давно уже начал, со дня приезда в Россию. Он давно уже думал здесь не о том, чтобы его имя было у всех на устах, а о страданиях людей. Он был готов даже вообще отказаться от всякого литературного творчества, если бы его приняли на работу в колонию прокаженных. Он прилагал много усилий, чтобы туда попасть, но ему, в конце концов, все же отказали. Тогда Василий Ерошенко поставил перед собой новую цель - помощь слепым, живущим в отдаленных районах страны в суровых климатических условиях. Вскоре он уже был снова в пути.
Чукотка
Появление слепого из Москвы у Полярного круга произвело сильное впечатление на чукчей. К Василию Ерошенко подбежал герой его будущего очерка Филипп Онкудимов.
- Ты,
мальце, из Москвы?
- Из Москвы.
- Из самой настоящей?
- Из самой настоящей.
- И слепой?
- Слепой, - с некоторой долей грусти и гордости ответил Bасилий Ерошенко.
Как бы там ни было, а он сумел преодолеть вечный мрак и холод. Он стал писателем, путешественником и вот даже добрался до людей, живущих "на краю земли". Бухта Святого Лаврентия, Берингов пролив, Ново-Марьинский пост, Река Белая вошли в его жизнь так же буднично и просто, как вошли до этого 2-я Мещанская улица в Москве или Бадаовань в Пекине.
И как везде, Василий Ерошенко и здесь живет так, словно он всегда жил в суровых условиях Севера вместе с Филиппом Онкудимовым и Умкой - Белым медведем. Узнав о том, что где-то за семьдесят километров есть человек, который нуждается в нем, Василий Ерошенко без всякого страха перед тундрой взял в руки посох каюра, сел на нарты и, покрикивая на собак, помчался по снежному насту, как будто этим только занимался всю жизнь.
Он поехал один, без проводника и поводыря, рассчитывая только на сообразительность собак и свое умение ориентироваться по солнцу. Это опасное путешествие чуть не стоило ему жизни. На полдороги Василия Ерошенко настиг буран, собаки оторвали упряжку от нарт и исчезли в бешеной круговерти. Писатель попал в безвыходное положение.
Он не мог догнать собак и не знал, в какую сторону идти, чтобы добраться до жилья. Кругом была холодная пустыня, вставшая на дыбы и заслонившая от человека и небо и землю. Нарты - единственное, что у него еще оставалось. Он поставил их стоймя, прислонился к ним спиной и вскоре над его головой, а затем и над нартами намело снежный курган. И вот здесь, на краю гибели, может быть, лучше, чем где-либо, раскрылся характер слепого писателя.
Он не просто ждал спасения или смерти, он не бездействовал, не проводил время в бессмысленном тупом оцепенении. Не имея возможности ничего предпринять, он, чтобы скоротать томительные часы, начал сочинять свою новую сказку. "Должен признаться, - скажет он впоследствии, - что некоторые чукотские сказки я сочинил в те тревожные часы, которые провел тогда под снегом". Вот одна из этих сказок, лучше других раскрывающая оптимизм Василия Ерошенко.
Она так и называется: "Чукотская идиллия". Повествование ведется от имени чукчи, попавшего примерно в такое же положение, в каком оказался и Василий Ерошенко. Спит на берегу моря человек, и снится ему сон, что он сильный и могучий и даже гнев разбушевавшегося моря ему нипочем, потому что лодка его плывет по небу. Поначалу и задремавшему морю кажется, что оно не может победить человека. Оба, и море и человек, просыпаются в тот момент, когда кит, олицетворяющий природу, взмахнув хвостом, сбивает с неба лодку и она скрывается в морской пучине. Но в лодке нет человека. Куда же он делся?
А никуда... Заснул он на берегу и приснился ему хвастливый сон, что он самый сильный на свете и даже море ему нипочем. Вот оно и наказало его, украло у него лодку и разбудило человека, чтобы он бегал у самой воды и беспомощно махал руками, чтобы убедился, какой он беспомощный перед лицом природы. Но человеку дан разум, дана великая сила убеждения для того, чтобы творить добро, и он обращается к морю со словами: "Ты, море, великое-великое, а я, человек, такой маленький против тебя; ты, море, могучее, а я, человек, такой слабый, ты, море, богато безмерно, а я, человек, такой бедный. Зачем тебе нужна моя маленькая лодка?.. Почему великий должен быть злым? Почему сильный должен быть жестоким? Почему богатый должен быть жадным?"
Вот такое диво дивное случилось с Василием Ерошенко. Вожак собачьей упряжки, умный пес, возвратился по следу назад и, зарываясь в сугроб мордой и лапами, повизгивая от нетерпения, откопал своего беспомощного каюра. Природа, словно подслушав мысли сказочника, возвратила ему упряжку, возвратила ему жизнь.
Так закончилась эта "Чукотская идиллия", которая могла стать великой трагедиен, жестоким столкновением слепого человека со слепой природой. Но Ерошенко всегда верил в лучшее, верил в силу духа человека, перед которым море становится ручным, и буран отступает. Из поездки на Чукотку Василий Ерошенко привез несколько сказок и очерков. Все они вскоре появились на страницах эсперантских журналов и журналов для слепых.
Кушка
Незадолго перед войной Василий Ерошенко предпринял свое последнее путешествие... Наркомпрос Туркмении пригласил его в республику для организации школы-интерната для слепых детей на Кушке, и он, не медля ни одного дня, собрался и поехал. Снова, уже в который раз, литературное призвание было принесено в жертву общественным заботам, непосредственному участию в организации жизни. Он сам выбрал место в горах для детского дома, сам написал письма своим друзьям с приглашением стать учителями в необычном учебном заведении.
Друзья колебались; тогда он приехал в Москву и увез их на Кушку только посмотреть и уже не отпустил назад, сумел заинтересовать их нужной работой, и они остались. Потом и Зинаида Шамина и Василий Яковлевич Шамин будут с благодарностью вспоминать годы, проведенные в интернате. Программу Василий Ерошенко тоже составил сам. И много неожиданного и непривычного было в этой программе: и плавание, и гимнастика, и сбор цветов, не говоря уже о предметах общеобразовательных. Не как обездоленных и несчастных воспитывал Василий Ерошенко своих учеников, а как людей полноценных, здоровых душой и телом.
Он им рассказывал и о замечательной женщине Лине По, ставшей скульптором, чьи произведения из воска ему были хорошо известны еще до того, как они попали в Третьяковскую галерею. Называл имена слепых ученых, работающих во всех областях человеческих знаний, в том числе даже в области аналитической геометрии. Да и сам он был блестящим примером для своих учеников. Он отдавал все душевные и физические силы своему любимому детскому дому, а в трудные годы отдавал и свою директорскую зарплату, покупал на свои деньги продукты и добавлял к тем скупым пайкам, что были положены ученикам по карточкам.
Его и директором в обычном смысле этого слова нельзя было назвать, потому что у него не только директорского кабинета, но даже отдельной комнаты не было. Василий Ерошенко спал в общей палате и вовсе не потому, что нельзя было выгадать для себя уютного уголка в доме, просто он считал, что так он будет ближе к своим ученикам, понятнее им. И когда у него спрашивали, не утомляют ли его дети, он с улыбкой отвечал: "А почему дети должны меня утомлять? Ведь ночью они спят".
В эти годы фамилия Ерошенко очень редко встречалась в печатных изданиях. В основном это были заметки информационного характера о жизни интерната, преследующие ту или иную практическую цель. Писал он и басни, критикующие работу облотдела общества слепых, и помещал их... в стенгазете. Писатель, которого охотно печатали лучшие журналы Японии, Китая и других стран, совершенно спокойно отдавал у себя на Родине свои произведения в стенгазету и радовался не тому, что его басни хороши или плохи с литературной точки зрения, а тому, что они помогали ему бороться с плохим председателем облотдела общества слепых. В этом был весь Ерошенко, который высшим смыслом своей жизни всегда считал пользу, которую он мог приносить людям немедленно, сейчас.
Появилась на страницах специального издания и последняя крупная работа писателя - туркменский алфавит для слепых. По своему характеру Василий Ерошенко был реформатор. И если алфавит признали "наилучшим из всех составлявшихся до сих пор" и им стали охотно пользоваться, то его реформы, связанные с разными нововведениями, с отрицанием устаревшей программы, озадачивали кое-кого в Наркомпросе, и как-то так получилось, что, возвратившись из очередного отпуска, Василий Ерошенко то ли сам отказался от директорства, то ли его очень умело вынудили отказаться и занять в интернате более скромное положение простого учителя.
Последние годы он все с такой же страстью, как и прежде, отдавал свои силы интернату, но необычное учебное заведение под руководством другого директора медленно, но верно превращалось в детский дом обычного типа. Увидев, что он не может этому помешать и ощущая первые признаки исподволь подкрадывающейся болезни, Василий Ерошенко после десяти лет бескорыстного служения Туркменскому Наркомпросу и своим педагогическим идеям уехал снова в Москву.
В школе остались два шкафа с книгами из его личной библиотеки, все собранное им за долгие годы скитаний по разным странам. Много здесь было и подарков от друзей с автографами и просто очень редких изданий. Ученики и преподаватели детского дома должны были благодарить Василия Ерошенко за то, что он оставил еще на несколько лет это богатство в интернате.
Но вышло наоборот: когда писатель приехал на Кушку специально для того, чтобы забрать свои книги, он с ужасом обнаружил, что шкафы пусты. Его ученица Зинаида Токарева в своих воспоминаниях привела грустную фразу, которую произнес Василий Ерошенко, оказавшись перед пустыми шкафами: "Это память о прошлых годах. А тут ими печи вытопили".
Обуховка, последний раз
Начался последний, самый трагический период в жизни писателя. После отъезда из Туркмении имя его исчезло со страниц специальных журналов и со страниц стенгазет. Наступило полное забвение. Он превратился просто в пожилого человека с палочкой. Друзья еще некоторое время встречали его в Москве, помогали ему советами. Уезжая в Туркмению, Василий Ерошенко пустил в свою маленькую комнату незрячих молодоженов и, вернувшись, кроме всего прочего оказался бездомным.
Целый год он скитался по углам и лишь после долгих уговоров своих друзей обратился в Президиум Верховного Совета. Ему очень быстро помогли устроиться, но тут надвинулась новая беда. Болезнь прогрессировала. Врачи не знали, что перед ними сидел не просто слепой с палочкой, а высокообразованный человек, знающий много языков, в том числе и классическую латынь. Они разговаривали между собой и произнесли страшное слово "канцер" - рак. Василий Ерошенко мужественно выслушал диагноз.
Он не пытался выяснить у врачей, сколько ему осталось жить, он даже не показал им, что понял латынь. Это была единственная слабость, которую он себе позволил в этот момент - не выяснять, сколько ему осталось жить, а попробовать прожить как можно дольше. Он не желал знать точную дату своей смерти, потому что именно в эту минуту спохватился, что главная книга до сих пор не написана, хотя и давно продумана. Бросив все, он уезжает домой, в деревню, и садится писать свою главную книгу. Болезнь развивалась медленно, и Василий Ерошенко инстинктивно чувствовал, что в его распоряжении достаточно времени, чтобы исполнить замысел.
На глазах у своих односельчан и близких он горбился от съедавшей его боли, высыхал, старился. Каждый день на его лице появлялись новые морщины и углублялись старые. С каждым днем рука его все больше слабела, но он все писал и писал, словно бы на глазах у всех переливал свою жизнь из одной оболочки в другую, из одной формы существования на земле в другую.
В декабре 1952 года Василий Ерошенко закончил свою главную книгу. Жить ему после этого осталось три дня. Ровно столько, сколько ему нужно было, чтобы отдать последние распоряжения и составить завещание. Свет в окне, горевший ночи напролет, погас, погасла и жизнь замечательного человека.
Смерть он встретил мудро и без страха, потому что успел завершить свой путь так, как хотел, и жил после приговора врачей столько, сколько ему нужно было для книги. Его последние слова были: "Могу спокойно умереть. Тут плоды моих долгих раздумий". Не знал он, что его долгие раздумья пропадут, исчезнут бесследно, и главная книга так никогда и не увидит света.
Племянница на большом пакете надписала адрес, по которому Василий Яковлевич Ерошенко попросил ее послать рукопись. И она послала, а адрес забыла. И так прочно забыла, что спустя несколько лет, сколько ни старалась, не могла его вспомнить. Пишу об этом в конце нашего путешествия на всякий случай. Вдруг рукопись книги не пропала, вдруг еще найдется.
А перед этим еще одну рукопись Василий Ерошенко передал В. А. Лукашевой, которая увезла ее с собой в Петрозаводск и там потеряла. Но самая бессмысленная и непоправимая потеря случилась уже после смерти писателя - погиб весь его архив. Мы уже знаем, что два шкафа книг сожжены на Кушке. Известно также, что часть архива хранилась у слепого адвоката В. Брауде. Эта часть сгорела при пожаре.
Все, что осталось, и все, что успел снова собрать Василий Ерошенко, было привезено в Обуховку, завещано Всероссийскому обществу слепых. После смерти писателя родные погрузили книги и бумаги, весом около трех тонн, на машину и отвезли в Старый Оскол, где и сдали в местное отделение ВТС. Архив приняли несведущие люди, сложили во дворе под навесом, а когда он им стал мешать, сожгли. Пишу и об этом на всякий случай. Вдруг кто-нибудь шел мимо вороха бумаг, поднял какую-нибудь папку невзначай, унес и сохранил. Очень хочется надеяться на это.
Автобус въехал в деревню и остановился у колодца. Шофер заглушил мотор и положил руки на колени, застыл в позе человека, сделавшего свое дело. Мы тоже некоторое время сидели неподвижно. Хлынувшая в открытые двери тишина деревенской улицы оглушила нас. Напоенный покоем и солнцем день требовал иного, более замедленного продолжения. Мы, не торопясь, выбрались наружу и остановились в тени автобуса. Шофер взял ведро, разулся и зашагал босиком к колодцу.
У крайнего дома на лавочке сидела древняя старуха, вся спрятанная в просторных складках старомодной одежды. Появление перед ее домом автобуса не произвело на нее никакого впечатления. Она смотрела на нас без всякого любопытства, а, скорее всего она смотрела куда-то мимо, может быть, вспоминая что-то очень важное, потому что сидела прямо и несколько даже величественно. Наш гид суетливо подбежал к ней и, видимо, считая, что все старухи глухи, нагнулся к самому уху и крикнул:
- Бабка, где тут дом Ерошенко?
Старуха испуганно откачнулась, гид понял, что кричать не надо, и повторил свой вопрос тише. Но древняя жительница все еще находилась где-то в своем, недоступном для суетливых людей, мире. Она долго вслушивалась в слова, гид повторил вопрос в третий раз, стараясь объяснять более пространно, чей именно дом мы разыскиваем, но у него не было терпения ожидать ответа, он досадливо махнул рукой, зачем-то обежал вокруг автобуса и отправился разыскивать председателя сельского Совета.
Мы от нечего делать подошли к старухе, кто-то сел рядом с нею на лавочке, она подвинулась на край, освобождая место еще для одного человека, и, наконец, стала отвечать на наши вопросы, подолгу в них вслушиваясь и припоминая свою длинную жизнь.
- Сколько же
тебе лет, бабушка?
- Много.
- Ну, сколько же все-таки?
- Да я уже и забыла. Давно живу.
- Ерошенко-то помнишь?
- Ерошенку?
Ее опять спрашивали про какого-то Ерошенку, но сколько она не вглядывалась в свою длинную жизнь, вспомнить его не могла, не было его и все тут. Четыре сына были, все погибли на войне, а про этого, про которого у нее спрашивали, никакой зарубочки в памяти. Подошел размашистым шагом председатель сельсовета, снял на ходу выцветшую железнодорожную фуражку, вытер ладонью пот со лба, снова надел.
- Что же ты, Ильинична, не покажешь?
Он обратился к ней грубовато, но как-то по-доброму, по-своему, по-обуховски, и старуха сразу поняла его, словно бы мы с ней говорили на одном, а председатель сельсовета теми же словами, а на другом языке. Глаза у нее оживились, она даже заволновалась немного, когда поняла, что мы спрашиваем про соседа Василия Ерошенко.
- А, Вася, - сказала она. - Хороший был человек Вася. Похоронили его. Давно похоронили. С тех пор ни разу не была.
- Вот здесь он и жил, - показал председатель сельсовета, ласково перебивая старуху.
На том месте, где стоял дом Ерошенко, была трава. Председатель подождал, когда мы оглядим бурьян и полынь, буйно разросшиеся на остатках фундамента, и рассказал, что после смерти хозяина приехали родственники, разобрали дом по бревнышку и увезли. В конце своего короткого рассказа председатель сельсовета снова снял фуражку, вытер ее изнутри ладонью и надел. Больше он ничего не знал.
Мы вернулись к автобусу. Шофер, видимо, сам в прошлом деревенский житель, возвращался от колодца босиком с очередным ведром воды. С мальчишеским удовольствием он выплеснул ведро на пол салона в переднюю дверь и, отойдя на шаг от автобуса, удовлетворенно наблюдал, как из задней двери по ступенькам потекла вода.
- Ну что, поедем теперь к памятнику? - спросил председатель сельсовета.
Колодезная вода хорошо освежила пол, стало прохладно, и мы с удовольствием начали забираться в автобус.
- Подождите,
возьмите меня, - вдруг услышали мы голос старухи.
Она попыталась сама подняться с лавочки и поднялась, но идти сама не могла,
председатель сельсовета подхватил ее бережно под руку, помог дойти до автобуса,
подняться по ступенькам.
- Не рассыплешься по дороге? - с улыбкой спросил он у Ильиничны, все также
бережно и ласково усаживая ее на переднее сиденье и садясь рядом. На лице
старухи обозначилось подобие ответной улыбки.
- Не рассыплюсь.
Мимо проходили две женщины, узнали, куда мы едем, тоже забрались в автобус. Подивившись тому, что мы специально приехали издалека, чтобы посмотреть на заросший травой пустырь, образовавшийся на месте дома, чтобы поклониться памяти их односельчанина, они дружно попытались вспомнить что-нибудь о Василии Ерошенко, но вспомнить ничего не смогли и сконфуженно приумолкли. И тогда, как бы подводя итог всем воспоминаниям, как бы выражая отношение родной деревни к писателю, старуха еще раз повторила самое главное, что она знала о нем:
- Хороший был человек Вася, добрый.
Шофер обулся, и мы поехали. Дорога на кладбище была совсем плохая, автобус качало, как на волнах. Председатель сельского Совета беспокойно поглядывал на Ильиничну, опасаясь, видимо, как бы она и правда не рассыпалась. Но старуха сидела крепко и не ощущала никакого неудобства.
По дороге к нам подсел еще один человек. Он шел по своим делам, сильно припадая на правую ногу. Шофер остановил автобус, чтобы подвезти его. Он оказался учителем и вызвался тоже поехать с нами.
Обуховка осталась справа, мы проехали мимо капустного поля, свернули с дороги и остановились в высокой траве у небольшого деревенского кладбища.
Покосившиеся кресты и скромные каменные надгробья скрывала высокая трава так, что издалека их и видно не было. В траве попадалось много желтеньких цветочков, удивительно скромных, придающих грустно-нарядный оттенок заброшенному кладбищу. Трава, колеблющаяся под ветром, которому здесь было просторно, обтекала кладбище со всех сторон, невдалеке синела ровная линия леса.
Хромой
учитель шел впереди, обернувшись, он показал на лес:
- Последние дни он любил гулять здесь. Брал палку и шел один, высоко подняв
голову.
Глядя на этот лес, на траву, нетрудно было представить слепого человека, идущего к лесу с высоко поднятой головой. Его пышные волосы ветер развевал так же свободно, как траву. Смертельно больной, все знающий о своей болезни, он последние дни бродил здесь в одиночестве, прощаясь с лесом, с травой, с солнцем.
Он шел к лесу, пока светило солнце, оно светило ему из-за леса, и, чтобы почувствовать его свет и его тепло, надо было смотреть поверх деревьев, подставляя солнцу все лицо. Улавливая малейшее отклонение солнца, когда начинались прохладные сумерки, Ерошенко возвращался назад, опустив тяжелую лохматую голову. В этот момент он был похож на древнего гусляра, отягченного нелегкой думой.
Нас предупреждали, что никакого особого памятника мы не увидим, и мы не увидели. Невысокий, слепя покосившийся деревянный обелиск окружала низенькая деревянная ограда. На холмике лежали полевые цветы.
Но было нечто в этом памятнике, что заставляло, наверное, каждого случайного прохожего остановиться и испытать глубокое чувство утраты. В небольшом углублении под стеклом вместо фотокарточки лежала книжка Василия Ерошенко "Сердце орла". Обложка была такая же ярко-желтая, как одуванчики, рассыпанные по всему полю до самого леса. Как на могилу солдата кладут простреленную каску, так положил кто-то на могилу писателя книжку.
В ограде лавочка. Каждый может зайти сюда, сесть и полистать книжку. И тогда откроется глубокий смысл сказанных старухой слов о том, что "хороший был человек Вася, добрый". Доброта к людям - главный мотив в творчестве Василия Ерошенко. Рядом со словами Ильиничны мне хочется привести слова великого Лу Синя из предисловия к сборнику "Сказки Ерошенко", вышедшему в Китае в 1922 году: "Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может осуществить свою мечту.
И мне открылась его наивная красивая и вместе с тем реальная мечта. Может быть, мечта эта - вуаль, скрывающая трагедию художника? Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не расставаться со своей детской, прекрасной мечтой. И призываю читателей войти в эту мечту, увидеть настоящую радугу и понять, что мы не сомнамбулисты".
Безвестная старуха из деревни Обуховки, никогда не читавшая сказок своего соседа, и великий китайский писатель одинаково понимали Василия Ерошенко, потому что он жил так, как писал, и писал так, как жил.
Мы приехали на кладбище во второй половине дня. Было еще довольно жарко, было большое солнце, которое так любил Василий Ерошенко. Оно продолжало нагревать землю, прутья ограды, деревянные дощечки обелиска. И книгу.
Обложка, нагретая солнцем, покоробилась и приподнялась слегка над титульным листом, а за ней потянулись и все остальные страницы. Казалось, что это само солнце пытается открыть обложку и заглянуть в книгу человеческой жизни, полистать ее торопливо перед тем, как покатиться усталой огненной головой по верхушкам деревьев и кануть в ночь.
Все пошли к автобусу, негромко переговариваясь, а я еще постоял немного один около памятника. Кругом лес, небо, трава, одуванчики, а в центре всего этого книжка в желтенькой обложке - одуванчик человеческого духа.
Я обернулся напоследок в сторону деревенского кладбища. Трава снова заслонила от меня покосившиеся кресты и деревянный обелиск. Шелковистая, высокая, она, словно занавес земли, соединилась снова там, где мы стояли и где мы прошли, не оставив никаких прогалинок и тропинок. Долго еще нужно топтать здесь траву, чтобы пролегла к памятнику Василия Ерошенко, к его замечательным книгам хоть маленькая тропинка.
Я написал эти последние слова несколько лет назад, и я рад, что сегодня они уже устарели. Тропинка, хоть и узенькая, протоптана. Я узнал об этом, когда приехал, чтобы сфотографировать скромный деревянный обелиск на могиле Василия Ерошенко. Обелиска этого я не нашел и деревянной ограды не увидел. Дерево заменили камнем и металлом, материалами, которые дольше не разрушаются и дольше хранят память.
История надгробия на могиле слепого писателя дает возможность проследить, как день ото дня, год от года растет интерес к Василию Ерошенко. Сначала была только ограда, потом, когда имя его крупными буквами напечатали в журнале "Знамя", появился на скорую руку сколоченный обелиск с нишей.
В углубление положили два толстых тома, напечатанных точечно-рельефным шрифтом, из библиотеки Василия Ерошенко. Никто не знал, что написано в этих огромных книгах с картонными страницами. Положили просто потому, что он никогда не расставался с книгами, и они лучше всего объясняли, кто здесь похоронен. Два толстых тома лежали под стеклом до 1962 года, пока не вышла в Белгородском книжном издательстве первая и единственная книга на русском языке в ярко-солнечной обложке "Сердце орла". Эту книжку мы и увидели под стеклом в нише, когда наш автобус въехал в высокую траву, достающую до самых окон, и остановился на краю кладбища.
В школе, куда я зашел во второй свой приезд, директор подарил мне небольшой любительский снимок, где запечатлен старый памятник. Односельчане принесли на могилу Василия Ерошенко столько цветов, что обелиск утонул в них, и цветы загородили и углубление и книжку под стеклом. А по обе стороны невысокой ограды замерли в почетном карауле девочки-пионерки.
Фотографию мне дал тот самый хромой учитель; нынче он директор школы. Обуховка к этому времени узнала уже многое о своем знаменитом земляке, и память о нем стала почетной. Спохватилось и общество слепых в Старом Осколе, не сумевшее сохранить архив писателя. Они заменили дерево камнем и металлом, а вокруг теперь ажурная железная ограда, о которой хочется сказать, не в упрек тем, кто ее поставил, словами поэта: "Могила, ты ограблена оградой".
Я сфотографировал новое надгробье и уже собрался уезжать, когда увидел директора школы, мчащегося по кочкам на велосипеде и размахивающего то одной, то другой рукой. Он привез еще одну новость: только что к школе прибыла машина с контейнером. В ящике, который я помогал распаковывать, оказался скульптурный портрет Василия Ерошенко и два небольших барельефа. Одесский скульптор Николай Васильевич Блажков в своем письме сообщал, что один барельеф он дарит Старооскольскому музею, а другой барельеф и бюст - Обуховке.
Мы вытащили бюст, поставили на возвышение и долго любовались дорогим подарком. И мне подумалось, что бескорыстная работа одесского скульптора говорит о том, что мы начинаем прокладывать к памяти Василия Ерошенко более широкую тропинку. Уже приехав домой, я узнал, что в Киеве в издательстве "Молодь" вышла на украинском языке книжка Василия Ерошенко "Квiтка справедливостi".